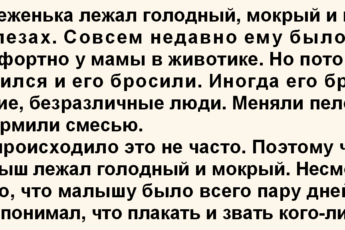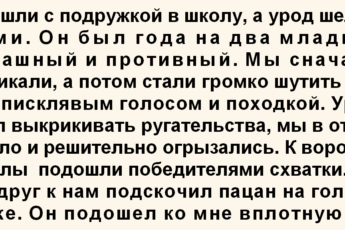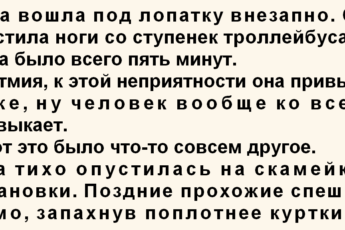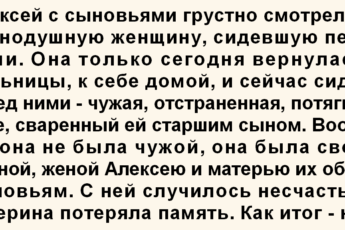Кот Васька не спасал брошенных младенцев, согревая их собственным телом, не подбадривал умирающих в хосписе, не совершал марш-бросок в Хабаровск вслед за хозяевами и даже сколько-нибудь примечательной внешностью, которая могла бы сделать из него интернет-героя, не обладал.
Был это в меру толстый, самый обыкновенный рыже-белый кот, обитающий в грязноватой комнате, заваленной деревянными брусками и опилками. Два раза в день в одно и то же время Васька слегка оживлялся и шествовал к железной миске, которую Палыч наполнял густой похлебкой с приличными кусками мяса.
Наевшись, Васька обреченно брел к двери: после еды хотелось поспать, но в этом вопросе хозяин был неумолим и в любую погоду выставлял на улицу. Вначале Васька сопротивлялся, но со временем понял, что лучше покинуть дом добровольно, чем под воздействием палычевского тапка. На улице он выполнял все дела, на которые его, собственно, и посылали, и ждал, когда можно будет вернуться к належанному месту за шкафом, куда меньше долетали опилки.
Васька уже и не помнил те времена, когда взвизгивания и жужжания приборов его пугали, перестал обращать на них внимание (как и на птиц, которые когда-то пробуждали в Ваське охотничьи инстинкты, а теперь вызывали только легкое раздражение вечной суетой и трескотней). Впрочем, однажды электропила все же заставила Ваську сменить жизненный темп.
В этот вечер случилось из ряда вон выходящее событие: к Палычу пришел не заказчик (эти оставляли вещи для починки и уходили быстро), а гость. Ваське он сразу не понравился — чем-то напоминал наглых дворовых голубей. Такой же лоснящийся, с маленькими глазками, в серо-синем пиджаке под стать птичьей расцветке. Говорил громко, похлопывал Палыча по плечу, называл стариной и лучшим другом, а распив первую бутылку, принялся сочувствовать его неустроенному бытью. Палыч хмурился, на вопросы не отвечал, как всегда говорил мало, отрывистыми фразами.
Пить с «лучшим другом» не захотел, тот набрался в одиночку и сменил лирические отступления на бурное веселье — вскочил на табуретку и стал горланить песни. Табуретка со сломанной ножкой рухнула, и гость все никак не мог подняться, запутавшись в полах пиджака. Ваську, обеспокоенного пропуском ужина, угораздило высунуться в тот момент, когда Палыч вышел покурить на крыльцо, а гость пытался оседлать электропилу.
Увидев кота, он пришел в неописуемый восторг и с воплями «закусочка!» принялся гоняться за Васькой по всему дому на четвереньках, умудряясь тащить за собой громоздкий инструмент. Обескураженный внештатной ситуацией, Васька попытался совершить невозможное — запрыгнуть на шкаф, но отсутствие практики помешало спастись.
Этот миг мог стать Васькиным звездным часом: осуществи гость свое намерение, и завтрашний выпуск газеты украсил бы своеобразный некролог с криминальным заголовком: «Собутыльник зверски расправился с котом хозяина при помощи электропилы». Но Палыч докурил как раз вовремя — дебошир был с позором вытолкан за дверь. Долго еще колотил в окна, по стенам, швырял камни, матерился, выл, грозился зажарить и кота, и Палыча, потом успокоился, затих, и к утру о нем напоминала только примятая трава у крыльца. Васька демонстративно вырыл ямку на этом месте и на всякий случай больше не показывался из-за шкафа в присутствии других людей.
А пил Палыч один, не было у него никаких собутыльников. Закончив вечернюю работу, долго мыл руки над пожелтевшей от времени и покрытой слоем жира раковиной, доставал из того самого шкафа, который не пришел коту на помощь в трудную минуту, нераспечатанную бутылку и стакан. Ежевечерний ритуал действовал на Ваську успокаивающе: день заканчивался без происшествий, можно было вытянуться и заснуть под мерное бульканье. Утром пустая бутылка отправлялась в большую картонную коробку, за содержимым которой иногда наведывался щуплый сосед с дергающимся глазом.
После вопиющего случая с электропилой привычный уклад васько-палычевских дел был нарушен еще раз. Васька по своему обыкновению дремал, подставив живот солнцу, Палыч жужжал над принесенным накануне шкафчиком, как вдруг в ряд знакомых звуков вкрался еще один — еле слышное, но настойчивое тиликанье откуда-то с прикроватной тумбочки.
Палыч прислушался, нахмурился, выключил лобзик. Скинул ворох газет, смахнул вездесущие опилки и с недоумением уставился на трезвонящий красный когда-то, а ныне грязно-облезлый телефон. Васька тоже воззрился на штуковину, которая на его кошачьей памяти никогда не подавала признаков жизни.
Телефон не умолкал, и Палыч наконец снял трубку. Долго слушал взволнованный женский голос, в конце концов сказал только «хорошо» и, положив трубку, долго еще стоял, не выпуская лобзик из рук. Васькина и заплывшая жирком интуиция подсказала, что этим дело не кончится. Весь следующий день он почти не спал, а с тревогой наблюдал, как Палыч выгребает из-под стола скомканные бумажки, корки хлеба, треснувшие ручки тумбочек и шкафов. Потом он смел вездесущие опилки, извлек откуда-то зеленую вазу из толстого стекла, вымыл ее под струей воды и водрузил на стол букет сорванных у крыльца мелких синих цветов. Рядом с вазой обосновались вычищенные кружки и тарелка с печеньем.
После Палыч долго тер руки, шею и спину старой жесткой мочалкой под летним душем во дворе. Васька выглянул в окно, забравшись на табуретку, потом понюхал печенье, для порядка грызанул стебель цветов и направился в кухню — странности странностями, а ужин ужином. Однако пока после еды кот отбывал свой «срок» на улице, снова произошли перемены. Палыч хмуро и решительно затолкал в мусорное ведро цветы, следом туда же полетело печенье вместе с вазочкой. Кружек на столе уже не было, инструменты валялись на привычных местах, а Палыч, доставший было из шкафа парадный пиджак, облачился в неизменный рабочий комбинезон.
Тут бы и успокоиться, но противное тревожное чувство надоедливой птичкой проклевывалось где-то в области дремлющей Васькиной души.
Марина появилась около девяти вечера, когда утомленный переживаниями кот перестал взмахивать кончиком хвоста, а сгорбившийся Палыч — поглядывать то в окно с мутным стеклом и потрескавшимся подоконником, последним приютом многих поколений мух, то на электронные часы с подергивающимися время от времени цифрами.
— Здравствуй, папа, — сказала она, и сердце Васькино ухнуло куда-то, будто это его в первый раз назвали непривычным нежным словом, будто на него глянули робко и доверчиво... Так и сидели они, обомлевшие, Васька за шкафом, Палыч на старой синей табуретке и смотрели на светловолосую хрупкую девушку, возникшую в их холостяцком бесприютном пространстве.
А Марина говорила. О том, как то угрозами, то уговорами выведала у матери фамилию и имя отца, как отыскала старых друзей, уверенных, что Палыч давно умер, пока не нашла одного, который в сердцах сказал, что видел его недавно и «лучше бы он в самом деле подох вместе со своим котом», как пробиралась по этой заблудившейся на окраине города улочке. Палыч молчал.
Марина сама предложила выпить чаю, сама согласилась, сама отыскала грязные чашки (не те, что Палыч готовил к ее приходу, эти канули в неизвестность), вымыла, зажгла плиту, вскипятила воду — Палыч молчал — налила чай, присела на краешек табуретки, вскочила, вспомнив про пирожные, которые принесла с собой, открыла нарядную коробку, выпачкав пальцы кремом, положила кусочек отцу на тарелку, показала такую же празднично-воздушную, как коробка со сладостями фотографию с недавней свадьбы, пожалев, что не нашла его раньше и не смогла пригласить... Пили чай.
Палыч молчал. Огорошенный тем, как эта легкая, звонкая, красивая девушка внезапно зашла в его жизнь — совсем как та, другая («Как мать?» — вопрос подступал, покалывал, но так и не прорвался через сомкнутые по привычке губы), что когда-то ненадолго высветлила его угрюмое с детства существование и ушла — мучительно, больно для обоих, отчаявшись пробиться через стену мрачного мужниного отчуждения. А он, как и сейчас, не знал, что делать с этим прозрачным мотыльком, впорхнувшим по ошибке в узкую щель негостеприимной двери.
Васька смотрел, как приплясывают при каждом Маринином движении деревянные бусинки на концах пояса. Васька принюхивался: пахло сладко, маняще, никто из посетителей не приносил с собой такого запаха, пробивалось в памяти — писк и копошение рядом, цветастая тряпка и что-то большое, теплое, мохнатое, вкусное, ныряющее в сырую коробку и закрывающее собой от неприветливого серого неба...
Васька вздрагивал и прижимал уши, когда, хлопоча, Марина несколько раз задела его краем длинного цветастого платья, не заметив притаившегося за шкафом кота. И только когда Палыч вышел покурить на крыльцо, а она принялась убирать со стола, застыла, увидев скомканный букет и печенье в мусорке, подняла с пола уцелевший синий бутон, повернулась, чтобы спрятать его в сумочку — только в этот момент вспыхнули за шкафом зеленые глаза единственного свидетеля первой встречи дочери с отцом.
— Котик, хороший, — она направилась к Ваське, а тот, парализованный чем-то, что было больше и сильней, чем страх перед электропилой, не мог сдвинуться с места. Марина протянула руку и — Васька зажмурился — коснулась его припорошенной опилками шерстки, в легком поглаживании прошлась по голове и спине, дошла до подбородка. Сам не зная почему, кот поднял голову и, не открывая глаз, провалился в поток незнакомого блаженства. Марина еще немного посидела рядом, вытерла слезы, быстро поцеловала его в макушку — вместо отца — и направилась к двери.
Васька не видел, как на крыльце она попросила разрешения зайти еще и Палыч кивнул; как долго он смотрел ей вслед, а потом тяжелой поступью пошел прочь со двора, не в силах вернуться во внезапно пустой и чужой дом. Васька забыл об ужине, своей старой миске, наглых птицах, которые с порога заглядывали в оставленную приоткрытой дверь. Не заметил он даже отсутствия хозяина. Так и просидел на одном месте, сбитый с толку первой в жизни лаской, пока его не сморил вечерний сон. Васька свернулся большим уютным шаром, уткнув нос в рыжую подпалину, пахнущую Мариной.
Палыч вернулся глубокой ночью — немного пьяный, но совсем не в том тяжелым мороке, который накрывал его обычно к пятому часу наедине с бутылкой. Впервые за долгие годы он вышел «в город» — то смущенно нащупывая маршруты молодости, то с легкой обидой отмечая изменившиеся до неузнаваемости места. Сквозь сон Васька слышал, как Палыч возится в шкафу, шуршит старыми конвертами, выбивает пыль из обложки массивного коричневого фотоальбома. Рассвет так и застал человека за столом, склонившегося над черно-белыми карточками и примятыми листками, исписанными летящим беспечным почерком.
Утром Васька обошел комнату, жадно вынюхивая вчерашние воспоминания, и отправился наверстывать пропущенную накануне трапезу. Палыч возился как обычно, только иногда зависал над резной ручкой, пока мерное жужжание не возвращало его к работе. Командированный во двор Васька сегодня не спешил обратно, сидел на пороге, задремывая, но просыпался и вытягивался в струнку, как только кто-то приближался к калитке.
Вечером Палыч покормил кота, кинул инструменты, постоял над столом с фотографиями и лег. Васька спал беспокойно, слышал, как вздрагивает и постанывает во сне хозяин. А утром никто не вскипятил закопченный чайник, не грякнул инструментами, споткнувшись об ящик, не налил в миску похлебку. Что-то страшное, сильное, холодное прошло через дом ночью, пробрало Ваську — от закругленных ушек до изогнутого кончика хвоста. Но кот выстоял, уцелел, может быть, отдав дань — одну из семи своих жизней. А вот Палычу откупаться было нечем. Кроме одной-единственной, непутевой, горькой, но все же честной по-своему.
Васька забился под груду табуреток да так и просидел целый день. Сначала в доме возник бутылочный сосед, коротко ойкнул, завидев лежащего на кровати Палыча, выскочил, вернулся с еще одним соседом и его бойкой женой, чей визгливый голос иногда будил недовольного Ваську. После приходили люди в халатах и форме, другие соседи, кое-кто из заказчиков... Испуганного кота никто не заметил, а вот он видел все.
Потом Палыча унесли, дверь заперли, и Васька остался один в опустевшем доме. Не сразу он рискнул выйти из своего убежища. Приблизился было к кровати Палыча, но отпрянул — дохнуло все тем же всесильным холодом, сунулся к пустой миске, жалобно поскребся в запертую дверь и вдруг неожиданно для себя издал горестный вопль, который зародился и рос в нем еще с самой ночи, а теперь вдруг вырвался на свободу, снова заставив задрожать не привыкшее к ударам судьбы тело.

Словно в ответ на кошачью жалобу раздались голоса — противный скрипучий, как сама дверь, соседкин и — глаза Васькины расширились — негромкий, мелодичный. Соседка открывала дверь, без умолку трещала, охала, ахала, рассуждала о том, как губит водка золотые руки, сновала по комнате, попутно с любопытством разглядывая дочку Палыча («Надо же, такую красавицу родил угрюмый пень»), соображала, удастся ли теперь поживиться чем-нибудь из дома («Хотя стоит ли затеваться... Разве что припрятал где-нибудь солидные заначки, а так — шаром покати»).
Наконец она остановилась, прижав к груди руки, и приготовилась наблюдать с одинаковым интересом либо трогательную сцену дочернего почтительного горя, либо холодные деловитые поиски чего-нибудь ценного. Однако Марина так на нее посмотрела, что даже бесцеремонная соседка поняла — ни в том ни в другом случае свидетели здесь не нужны, и нехотя ушла. Когда шаги ее во дворе затихли, Марина оглядела комнату, сама не зная, что делать в доме умершего сегодня человека, которого видела всего раз в жизни, а единственным отцовским благословением стал прощальный кивок в ответ на просьбу прийти еще.
Перебрала фотографии на столе, особенно долго смотрела на ту, где молодая пара запечатлена была в торжественных нарядах: жених все с тем же мрачноватым выражением лица, что и спустя много лет, но есть и еще что-то — смотрит на хорошенькую смеющуюся невесту с удивлением, почти с испугом: почему он? Нет ли здесь ошибки и как скоро разочаруется она в своем выборе?
Сунула фотографии в сумочку и вдруг быстро направилась к двери не в силах больше оставаться в этом доме, который не успела узнать при жизни хозяина, а теперь уже было поздно, поздно...
Дверь за Мариной почти закрылась, и Васька завопил отчаянно — как десять лет назад крошечный котенок при виде огромной собаки, нависшей над коробкой; как солидный зверь, которого чужой дурной человек чуть не раскромсал по пьяни; как потерявшее единственного своего человека одинокое существо, взвывшее перед запертой дверью в доме, где они с Палычем жили спокойно, размеренно, по-своему уважая друг друга, а теперь — пустом, пропахшем смертью и праздным соседским любопытством.
Марина вернулась и заплакала, встретившись с отчаянным взглядом осиротевшего кота. Оплакивала фотографию, полную молодых робких надежд; маму, ушедшую от отца, но так никогда и не покинувшую его, живущую в полном одиночестве в уютной обустроенной квартире, которая странным образом напоминала палычевскую времянку; себя, маленькую, мечтавшую, что папа однажды ворвется в их жизнь красивым молодым принцем и умчит в свой прекрасный сверкающий мир; отца, которого не успела узнать, но полюбила и приняла сразу, как умеют люди с чистым сердцем, знающие каким-то образом, что рождены они в большой любви; Ваську, единственного друга отца, делившего с ним каждый день. Уткнулась в теплую шерсть и плакала, плакала, плакала, а Васька, боявшийся воды как огня — бывает и так — не замечал, что капли бегут по его бокам и, зависнув на краю, скатываются в опилки, собирая множество маленьких желтых островков.
Марина шагала к остановке, домой, к мужу, продолжать жизнь. Васька спал, и снилось ему, как большой человек прогоняет оскалившуюся собаку, достает из пустой коробки отчаянно шипящее рыжее взлохмаченное существо, бормочет «ишь ты», а потом несет домой пригревшегося котенка, спрятав под куртку. Васька вздыхает во сне и тесней прижимается к Марине, она улыбается и плотней запахивает над ним вязаный серый кардиган.
Автор: Мария Якунина