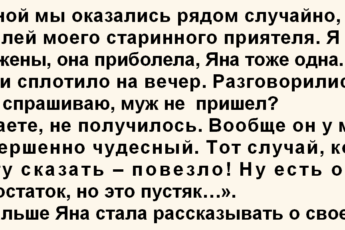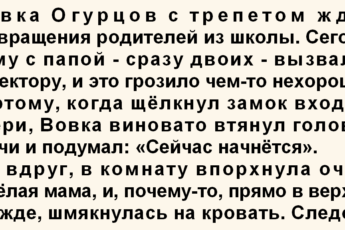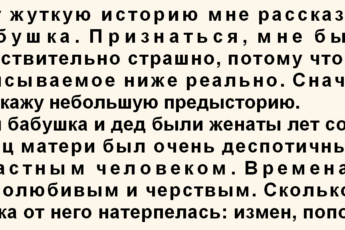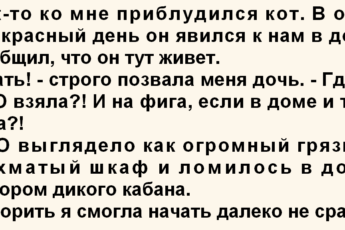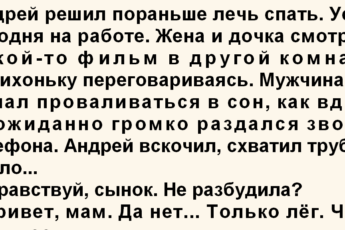Они были такими растерянными, его юные родители. И черноглазая мама с длинными пушистыми ресницами, и папа с его кудрявым форсистым чубом, в рубашке «выколи глаз», сидели перед Семкой и пытались что-то там объяснять: мол, они сейчас ненадолго уйдут в магазин, купят машинку и сразу же вернутся.
— А почему вы не берете меня с собой? Я-то знаю, какую машинку надо, а вы нет? – с логичной разумностью спрашивал папу Сема.
— Ну…, — изворачивался папа, — это такой специальный магазин… Туда пока детям нельзя…
А у Семы где-то внутри оборвалось сердце. И он знал, что это именно сердце, и оно – оборвалось. Потому что, понятно – родители Сему обманывают. Не по своему желанию или прихоти, они любят Сему и глубоко страдают от разлуки – обстоятельства вынуждают покинуть его. Буквально час назад Сема ехал с папой и с мамой в насквозь промерзшей электричке, и даже ноги его, обутые в валеночки с красными галошками, мерзли. И мама, кутая сына в свою искусственную, под леопарда расписанную шубку, стонала:
— Ну когда этот чертов Выборг уже появится! Ребенка заморозили совсем!
И вот они в раздевалке, точно такой же, как раздевалка в Семиной младшей группе в родном садике «Вишенка», выбирают для него шкафчик.
— Вот этот, с паровозиком, Сема, будет твоим. Хорошо? Давай-ка снимем рейтузы.
И мама снимает с Семы шарф, шапку на резиночке, и шубу, и свитер, и рейтузы, и колготки. И Семе совсем не холодно. И на душе Семы глубокая обреченность, и он даже не плачет. Высокая тетенька в белом халате фальшиво-ласково приговаривает:
— Какой хороший мальчик, какой спокойный мальчик, ваш Семочка! Пойдем, Сема, в группу, знакомиться с ребятками! – а сама (Сема все отлично видит и все отлично понимает) кивает несчастным папе и маме, идите, мол, что встали? Не травмируйте ребенка!
Из отрывков взрослых разговоров Сема знал, что эта группа расположена в санатории под Выборгом. И это – лечебный санаторий, и что Сема приболел, а тут его подлечат. А еще Сема понимал, что слова «санаторий» и «зима» плохо сочетаются друг с другом. В прошлом году он с мамой тоже был в санатории. Они там тоже лечились. Но было лето. И было огромное ласковое море. Сема врезался по пояс в теплую, горько-соленую на вкус воду, волна мягко и упруго толкала его, играючи опрокидывала, и Сема смеялся – это ужасно весело – играть с морем!
Здесь моря не было. Длинный желтый дом. Пахнувшая хлоркой лестница. Большая комната с широкими окнами. В углу – игровая: шкаф с пластмассовыми, совсем неинтересными игрушками и ковриком на полу, на котором копошились тихие, бледные дети. В середине комнаты – квадратные столики и стулья. Батареи, прикрытые дырчатыми фанерными ящиками, стол для воспитателя около двери, ведущей в спальню с железными кроватями. Скучно и уныло.
В окна льется бледный, белый, лишенный красок, дневной свет. На стенах нет картинок. В родной детсадовской группе Семы все стены были в картинках. И еще куча всяких поделок на стенде. И игрушек из одной только пластмассы было мало, зато мягких – хоть отбавляй. И пожарные, и грузовые машины, и маленькая плитка для готовки, и форма Айболита, и чемоданчик Айболита, и столики, ярко крашенные красными цветами и золотыми листьями…
А тут – как в больнице – бело, чисто и тоскливо. И дети в этой группе были такие же «больничные», бесцветные, тоскующие, в убогих байковых пижамках.
И Семен совершенно по-взрослому понял: здесь ему будет очень плохо. Очень и очень плохо.
Он стойко держался целый день: послушно черпал ложкой какую-то бурду из вареной моркови на обед, безвкусный винегрет на ужин. Послушно умывался на ночь. Не капризничал и не хныкал, когда ему делали уколы (красные – не больно, белые – больно), дал уложить себя в железную панцирную кровать – на наволочке была синяя печать и буквы. Не испугался, когда толстая нянечка объявила отбой. Она так и сказала – отбой. И только тогда, когда бесцеремонно вырубили свет, не спросив даже, нравится это кому или нет, Сема обхватил подушку и горько, безутешно, но совершенно бесшумно заплакал. Он не слышал, плачут ли другие дети, ему это было совершенно неинтересно – скучные, безликие, какие-то ненастоящие дети. Будто бы Сема – один единственный живой человек здесь. Остальных кто-то вырезал из серого картона и забыл раскрасить.
Наверное, тогда он и начал стремительно взрослеть, понимать, что нужно уметь терпеть и ждать: «Бог терпел и нам велел». Может быть, Сема услышал эту поговорку от толстой нянечки? Он, подавив в себе тоскливую безнадегу и оторванность от яркого, летнего мира, где папа и мама, где бабушка, мясистые сладкие помидоры и печенье «персики», где мороженое и мамино рукоделье в корзинке, — терпел и ждал. Больше в этом санатории делать было нечего.
С утра начинались бесконечные процедуры. Потом Сема, так же, как и все остальные ребята, копошился на коврике, делая вид, что играет. Потом их одевали и вели по расчищенной от снега дорожке в другое здание с огромными, во всю стену, окнами и зеркалами. Там было много мячей и обручей, и Семе хотелось побегать с мячиком. Но и тут – никаких игр. Сема и остальные послушно выполняли приказы воспитателей: ноги на ширине плеч, вдооох, выыыыдох, вдооох, выдох. Начинаем следующее упражнение!
В окна лезли огромные, в снеговых шапках ели, увешанные гроздьями волшебных шишек, и хотелось поиграть с шишками и слепить снеговика с шишечным носом. Но Сема в белой маечке и черных трусах приседал и наклонялся – рраз, дваа, разз, два, кончили упражнения.
Вечером, после безвкусного ужина их строем вели по другой снежной дороге. В самой гуще елового леса располагался кинотеатр, где детям показывали мультики. Мультики показывали редко, и это было ужасно грустно. И самое ужасное – мультики нельзя было ни с кем обсудить – дети, которых лечили в этом санатории, наверное, были самыми больными, самыми несчастными детьми в мире. Наверное, если даже бы прилетел на орле сам Айболит, все равно бы не излечил этих ребят.
Семен терпеливо жил. Но чувствовал – терпение его на исходе. Он плохо ел, плохо спал и кожей ощущал, что становится таким же безликим и бессловесным, как и все остальные. Если бы…
Если бы однажды к ним в группу не привели девочку Юлю. То, что произошло что-то экстраординарное, все поняли, когда раздевалка взорвалась оглушительным ревом. Нормальным, капризным, вредным ревом: Юля не хотела расставаться со своим нарядным платьем.
Потом, ее, красную, заплаканную, силой втолкнули в группу, и она, жестоко сопротивляясь, умудрилась укусить нянечку. Воспиталки страшно орали, бегали туда-сюда, а нянечка, оттопырив укушенный палец, выла:
— Срочн-а-а-а лекарство от столбняка! Это может быть заразно!
И вдруг все, и безликие девочки, и бледные мальчики в одинаковых серо-голубых, в размытый квадратик пижамках ожили и внимательно посмотрели на эту Юлю. Она, синеглазая, в своем ярком синем платье в желтый горох, выглядела, как воинственная, всклокоченная птица, очень красивая и необыкновенно шустрая. На плече Юли кокетливо болталась сверкающая сумочка, расшитая пайетками. И эту сумочку Юля так же отстаивала не на жизнь – на смерть. Посмотрев на стайку больных, она, перекинув толстую черную косу на спину, спросила:
— А вы всегда такие заморыши?
Все удивленно захлопали ресницами.
— Няня сказала, что мы – больные. Нам нельзя плохо себя вести, а то не выздоровеем, — прошелестела одна серенькая девочка.
— Ну, и дураки! – резюмировала Юля.
Пока взрослые мельтешили, спасая няню от «столбняка», Юля умудрилась оценить уродство игрушек на единственной полке в углу.
— Ха! – смеялась она, — умора! Это что?
Она схватила пластмассового бегемота.
— Я – тетиха – бегемотиха! – Юля опять сняла с полки какого-то, то ли пингвина, то ли поползня:
— А я поползун-лизун! Давай дружить.
— Поползун –лизун, ха-ха-ха, рассмеялся кто-то.
— Тетиха-бегемотиха, — подхватил другой.
Никогда еще в группе не было так оживленно.
Юля наотрез отказалась снимать с себя платье.
— Оно – мое любимое! Оно идет к моим глазам! Уберите от меня свои застиранные штаны! Не хочу! Укушу! – кричала Юля. И все вдруг поняли: платье очень идет к Юлькиным, даже не синим, а сиреневым глазам. Юлька – красавица. Таких в жизни не бывает!
— Юля, я накажу тебя! – пылила воспитательница! – Я в угол тебя поставлю.
— Да ставьте, сколько влезет! Платье я не сниму, ридикюль не отдам! – Упорствовала Юлька.
Она ввела сумятицу в сонный ритм санатория. На прогулке, где принято было тихо слоняться между засыпанным снегом домиком и гипсовой статуей оленя, Юля организовала кружок «фигурной лепки». Детвора подхватилась катать огромные шары и выстраивать снежных баб с шишками вместо носа. В игровом углу Юля устроила кукольный театр, задействовав весь арсенал уродливых мышек, жирафиков и неваляшек. Везде, абсолютно везде, звенел ее колокольчиковый смех. Даже на процедурах! На тихом часу она, вместо того, чтобы спокойно лежать в кроватке, вытянув руки по швам, устроила концерт. Громко пела:- На дальней станции сойду
Трава по по-о-о-яс…
В общем, Юля, портила дисциплину.
Самое счастье в том, что кровать Юли располагалась рядом с кроватью Семы. На тихом часу он неотрывно смотрел на ее фиолетовые глаза, обрамленные щеткой густых ресниц.
— Нравлюсь? – спрашивала Юля.
— Да, — не стеснялся Семен, — ты очень красивая.
— Я знаю, — вздыхала Юля, — а ты что такой несчастный? — Скучаю по маме и папе, — честно отвечал Сема.
Юля презрительно хмыкнула:
— Ф-и-и-и, ты что, девочка-плакса? Я думала, что ты Айвенго… Чуть замуж за тебя не собралась! А ты знаешь, что меня вообще мама покинула?
Для Семы признания Юли были величайшим потрясением. Он даже не понял, какое из двух его больше потрясло: то, что Юльку покинула мать, или ее такой скоропалительный брак с Семеном.
— Да! Меня бабушка воспитывает! И, ничего, не плачу! Ты мою бабушку не знаешь – она у меня такая, что все эти папы, мамы – фигня на постном масле! – Юля горделиво повела плечом, — и все болезни – фигня на постном масле! Надо смеяться и ругаться на болезнь. И все сразу выздоровят! И домой быстрее поедешь!
— Но ты ведь непослушная, — удивлялся Сема.
— Нет. Я же не тарелками кидаюсь! Я просто веселюсь и хочу быть красивой! Я не слушаюсь болезней. Меня так бабушка учила. Она сказала, что если бы не мой характер, то я давно бы умерла! – ответила Юля.
Слово «умерла» здорово пугало, но следующее признание Юли было таким, что Сема забыл обо всем на свете. — Бабушка говорит, что у меня мощный генотип! – похвасталась Юля.
— Что?
— Мощный генотип! Это — Тайна. Клянись, что никому не скажешь!
Сема поклялся.
— Клянись родителями!
Сема, собравшись с духом, поклялся и родителями, и даже бабушку с дедушкой не пожалел.
— Я – незаконная дочь Элизабет Тейлор! – прошептала Юля.
Сема ровным счетом ничего не понял. Он не знал, что это такое – Элизабет Тейлор.
Юля протянула руку под подушку, достала свой блестящий ридикюль и достала из него фотографию удивительно красивой женщины.
— Так это же… Это же из сказки! – вспыхнул Семен, крайне удивленный.
— Конечно, из сказки. А волшебницу играла Элизабет Тейлор. Это американская актриса. Она приехала в СССР, тайно родила меня и уехала в Америку.
Семену стало до слез жаль несчастную Юлю. Как это – приехала, родила и уехала в неведомую страну? Вот тебе и добрая волшебница!
Юля села на кровати и всплеснула руками совсем по-взрослому:
— Ну до чего же ты еще ребенок! Ты не понимаешь! Она спрятала меня до поры до времени! Заберет, когда можно будет!
— От кого спрятала? – не унимался Семен.
— От врагов. У нее мало врагов, думаешь? Вот и спрятала. Здесь, бабушка говорит, надежно и спокойно. А когда я вырасту, она увезет меня в свою страну. Потому, сам понимаешь, унывать и болеть мне нельзя. — А что у тебя за болезнь? – у Семена горели уши.
— Странная такая, американская болезнь, — пространно сказала Юля, — но ты об этом – никому ни слова!
Наверное, фотография волшебницы из знаменитого советско-американского кино «по секрету» была показана всем обитателям санатория. Иначе, как объяснить потрясенно-задумчивое выражение всех, даже нянечек. И кто-то из взрослых даже поверил:
— Ерунда, конечно, но такое сходство невероятное!
В санатории поселилась великолепная, фантастическая легенда. И эта легенда вытесняла собой недуги…
Когда с крыш закапала капель, детей, порозовевших и оживленных, стали забирать родители. В группе стало весело – все готовились к отъезду, и даже в зале для физкультуры начали бегать и скакать по-настоящему. Врачи утверждали, что выздоровлению и укреплению детских организмов способствовала новая методика лечения и чистый воздух. Но у всех пациентов на этот счет было свое собственное, «тайное» мнение. Юлькины легенды все перевернули.
Они так и не успели попрощаться. Родители забрали Семена во время тихого часа, в тот самый момент, когда «незаконная дочь Тейлор» крепко спала, смежив свои густые ресницы крепко-накрепко. Семен только и смог, что… поцеловать ее. Это был самый первый в жизни Семы поцелуй.
И это был самый лучший поцелуй…

— Семен Яковлевич, такая оказия! Иностранка, русскоговорящая, гражданка Швеции! Острый приступ астмы. Доставили к нам, — не доклад, а барабанная дробь. Скворцова всегда так – трещит, как сорока.
— Имя, страховка? – Доктор Удальцов шел по коридору клиники, и полы его халата развевались, как шлейф рыцарского плаща.
Скворцова едва успевала за начальством. Она чувствовала, что не нравится Скворцову, (да этому сухарю никто не нравится. Он вообще всех женщин за людей не считает) а потому еще больше заискивала и частила:
— Джулия Лаарсон, если что, она согласна перевестись на платные услуги! Ей плохо стало на улице, Семен Яковлевич, не бросать же человека на дороге?
Удальцов внутренне хмыкнул: интересно, что бы сказала эта Скворцова о простом человеке, не обладающим гражданством Швеции? Или, на худой конец, ОМС? Не очень-то замечал Удальцов, чтобы Скворцова так уж пеклась о пациентах. Оказия… Блин.
Джулию Лаарсон разместили в люксе. Хочешь, не хочешь, а надо посетить столь знатную госпожу. Профессиональную этику никто не отменял. Семен Яковлевич «надел» на лицо ослепительную улыбку, результат искусной работы стоматологов, стоившей доктору немалых средств.
Дверь палаты-люкс открылась, и спец-улыбка доктора тут же сползла, сменившись радостным узнаванием и настоящей искренней, от уха до уха, откровенной русской «лыбой» — знаком особого расположения и приязни. Скворцова опешила даже – чтобы сухарь Удальцов ТАК улыбался женщине?
Он сразу понял, кто сейчас возлежит, очухавшись после приступа, на оснащенной по последнему слову техники и комфортабельности кровати. Достаточно было услышать ее заразительный колокольчиковый смех, а потом увидеть эти фиалковые глаза под черными, причудливо изогнутыми бровями, и узнать в Джулии ту самую Юльку, «незаконную дочь» ныне покойной Элизабет.
Возле нее дежурил молоденький Петр Иванович, интерн, весь пунцовый от неловкости и робости. Ну вот, Юлька нисколько не изменилась, все так же вносит приятные изменения в унылую больничную жизнь: даже Петра Ивановича в краску ввела, чаровница.
Она сыпала шутками, задавала нескромные вопросы, вводила в ступор, играла глазами, совершенно не слушая рекомендаций. Она искрилась и светилась так, что все присутствующие в палате руку бы дали на отсечение: никто бы и никогда не поверил, что у пациентки хроническое заболевание.
Из палаты Удальцов вышел растерянный и рассеянный – Юлька его не узнала. Да и как его узнать? Что он был для нее тогда – один из общей массы больных ребятишек, только и всего. Слишком яркая личность, эта Юлька, Джулия, мадам Лаарсон, неисправимая фантазерка, современная Мата Хари, глаз утра. Богиня утра! .
***
Удальцов собрался домой. Рабочий, полный потрясений и обычных рутинных хлопот, день подходил к концу. Он снял с себя халат и накинул пальто, как в дверь постучали.
— Войдите.
И вошла его богиня. Прокралась, как лучик солнца в щель между занавесками.
— Мадам Лаарсон? – Семен Яковлевич несколько опешил.
Юлька грациозно уселась без всякого приглашения присесть.
— Привет, Айвенго! – просто и по-свойски улыбнулась она. Доктор Удальцов так и хлопнулся на свое кресло. Быстро нашелся и ответил:
— Тетиха-бегемотиха!
Юлька погрозила ему пальчиком.
— Но-но, не зарывайтесь, уважаемый! Я все-таки гражданка Швеции! Могу устроить международный скандал!
— Я так рад тебя видеть, Юлька! Я всю жизнь тебя вспоминал!
Хотелось съязвить и спросить Юлю о «матушке из Америки», хотелось узнать, как она, почему покинула Россию, что с ней, и прочее, и прочее… Но больше всего хотелось узнать, замужем ли сейчас мадам Лаарсон, разведена ли…
— Разведена! – она умела читать мысли,эта Юлька, — и давно. Не сошлась характером со своим шведом. Мамочка-то меня, увы, не забрала с собой.
Юлька смеялась, Юлька потешалась: бабушка придумала красивую легенду. Для себя, скорее, придумала, чтобы не так было больно осознавать, что не нужны однажды сбежавшей обыкновенной русской, никакой не Тейлор, дочери ни она, ни Юлька. А Юлька ждала, ждала… Потом, когда объявилось пьяное существо, потерявшее человеческий облик, называвшее себя матерью Юльки – тоже не верила и ждала. Швед Юхан, будучи в туристической питерской поездке, встретил Юльку на шумном Невском и влюбился без памяти. Да в нее все влюбляются без памяти. Просто тогда Юля посчитала: с ее заболеванием лучше жить за границей. И уехала, оставив бабушку совсем одну на всем белом свете. Она все-таки выправила бабушке документы на выезд и гражданство, но… было поздно уже. Бабушка умерла…
А потом началась ужасная тоска. Но… быт, быт, странная и страшная штука, держит крепче всего. С Юханом Юлька развелась через пять лет. Юхан – собственник и ревнивец. Юхан – скучнейший человек. С Юханом — все!
Юлька имеет маленький бизнес в Швеции, мечтает открыть пару, тройку магазинов и здесь, в Питере. Все нормально, и болезнь не мешает! Чихала она с высокой колокольни на все эти болезни…
— У меня только один вопрос, Айвенго, — вдруг спросила она, — а ты тогда, с поцелуем – серьезно?
Удальцов забыл, как дышать.
— Ты ведь крепко спала? Опять обманула?
Юлька прижмурилась:
— Конечно, обманула. Я люблю прикидываться: спящей, веселой, здоровой, в зависимости от настроения! За мной должок!
Семен Яковлевич, этот строгий неулыба, сухарь и вечный холостяк, оробел, затем вдруг вспыхнул, как Петр Иванович, юный интерн, а потом сказал:
— Долги надо отдавать, милая Джулия! Кто-то там замуж за меня выйти грозился!
***
Скворцовой никто не верил. Она трещала по всей клинике о том, как своими глазами, лично, видела, что их сухарь Удальцов вовсю целовался с этой сумасшедшей шведкой! Да! Да, с этой холеной богатенькой шведкой! Сам! Вот так-то, девочки, кто там мечтал его охмурить? Нате, выкусите! Продался наш Удальцов! На заграничное добро позарился!
А ей не верили и отмахивались, как от надоедливой мухи.
Да и поверили бы, не удивились: подумаешь, целовался. Там такая тетя, не захочешь – поцелуешь! Вылитая Элизабет Тейлор! Одни глаза чего стоят! Даже наш сухарь не удержался!
Автор: Limuza Ivanus