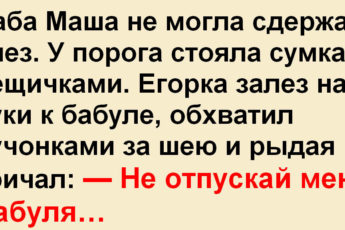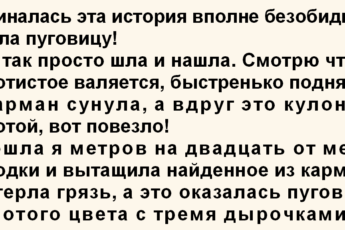Никто не знал, сколько деду Мите лет. Похоже, ковылял он по деревне, сколько та на земле стояла. Ребятня пробовала выспросить аккуратно, да без толку: за давностью лет забыл дед, когда родился. Взрослые же в ответ на расспросы только плечами пожимали: когда сами маленькими были, Митю уже дедом кликали.
Впрочем, всерьез до этого дела никому не было. От деда Мити деревне в равной степени что выгоды, что проблем: работать он лет сто уже как не может, но и есть особо не просит. Так, подкинет кто из соседей картошки или капусты – вот и славно, вот и день прожит. Погреб от такого подношения не обеднеет, да и Господь стариков обижать не велел – так что селяне не жадничали. Кроме того, была небольшая от деда польза: игрушки делал.
Да как делал! Где соломы отщипнет от стога, где веточки подберет, где листву – и вот, красуется дородная баба-с-ладонь, соломенной юбкой стол подметает, черными бровями поигрывает. Дети от восторга пищали, да и взрослые, бывало, ахали, уж больно ладно у деда выходило. Как-то из полена такую лошадку выточил, что счастливая Ксюта, пастушья дочка, с ней два лета таскалась по всей деревне, покуда не выросла так, что перешагнуть через любимицу свою могла беспрепятственно. Младшей сестре отдала.
Подход детворы к игрушкам известен: нет-нет, да поломают. Свою, чужую, без разницы – все равно жди рёв и драку. Дед Митя и тут на выручку приходил: строго-настрого запрещал детям из-за поломки слезы лить. Поломали, говорил, так ко мне несите – починю.
И чинил. Бабу вышеупомянутую как-то неосторожно к свечному огоньку поднесли, половину юбки спалили и бровь левую впридачу. Дед Митя только языком цокнул, подумал, поколдовал, и глянь: красуется та в новом наряде, из лоскутков старого одеяла сшитом, а брови настоящей сурьмой подведены. Радости было…
Единственно, чего от деда Мити сельчане никак добиться не могли, так это чтоб он в городе свои игрушки продавать начал.
– Ты ж богатым враз станешь! – втолковывал ему староста, очень хорошо знающий, как такие дела делаются. – Детей в городе тьма, все балованные, таких игрушек, как у тебя, и не видели никогда. Так клянчить начнут, родители любые деньги отвалят, лишь бы угомонились.
– Не хочу, – упрямо качал головой дед Митя. – Не для того я их делаю, чтобы продавать.
– А для чего?!
– Для души.
Душа у деда Мити была широкая: ни один ребенок в деревне без игрушки не оставался. Даже младенцы в люльках, и те глаза завороженно пялили на разноцветные фигурки, которые родители на колыбели вешали. И не плакали почти – так что, может, пользы от деда было больше, чем казалось.
И уж, конечно, любой ребенок обожал бывать у чудо-мастера в гостях. Случалось такое частенько – вопреки сказкам, живущий в одиночестве старик не ел детей и даже не гонял их со двора. Напротив, радовался, когда те заглядывали. Немедленно шуршал по полкам, выставляя новые свои творения – или старые, из полюбившихся. Все позволял трогать, со многими разрешал играть. Не с каждым, правда, готов был расстаться – однако, заметив интерес к какой-нибудь своей кукле, немедленно обещал сделать точно такую же и даже лучше. “Точно такую же” не получалось никогда, но с “лучше” обмана не было.
Все те полки, на которых в других домах теснилась посуда, были заставлены у деда Мити куклами. Блестели пузатыми боками расписные матрешки, распахивали клювы в беззвучном крике самодельные птицы, внимательно смотрели на вошедших вылепленные из глины странники с настоящими деревянными посохами. Иногда кто-нибудь из ребят, увлекшись игрой прямо в гостях, невольно вырывал перо или отламывал кончик глиняной шляпы, после чего испуганно протягивал игрушку деду Мите, уверенный, что тот немедленно вытолкает его взашей.
– Не бери в голову, – улыбался дед Митя, осторожно забирая пострадавшего. – Всё чинится.
И в его руках чинилось всё.
Так бы оно и было до скончания веков, если бы вдруг не случилось то, чего никто не ожидал: дед Митя умер. Сидел зимней ночью за очередной своей задумкой – мастерил кафтан для Кота в сапогах, застонал глухо и медленно голову на стол положил, прямо на игрушку. Сердце остановилось. Тихо в доме стало. Минут на пять.
– Что за дела? – проскрипел недоуменно с полки кто-то. Блеснул птичий клюв. Ворон прокашлялся и повторил:
– Что за дела, я спрашиваю?
– Ой, кажется, ему плохо, очень плохо, – захлопотала матрешка с соседней полки. – Девочки, девочки, глядите, нашему мастеру плохо!
Две ее товарки поменьше затрещали точь-в-точь так же.
– Не ш-шумите, – прошипел Кот-в-сапогах. – Тяжело-о…
Он заскреб матерчатыми лапами, с трудом выбираясь из-под головы. Склонил над ним свою мягкую морду.
– Кажется, не дышит, – постановил наконец Кот. В углу кто-то ахнул, с полок зашептались пуще прежнего.
– Что же будет теперь? – с волнением спросил глиняный странник. Он был совсем молодым и никогда не видел смерти. – А мы? Нас раздадут? Выкинут? Оставят?
– Только о себе и печетесь, – напустилась на него Главная Матрешка. – Вам-то чего бояться, вас винтить-развинчивать не станут…
– Тих-ха! – каркнул ворон. На полках немедленно стихли. Эта важная птица была не очень похожа на настоящих воронов (прежде всего потому, что настоящие были побольше размером и не носили шляп), но считалась одной из старейших игрушек – а потому пользовалась уважением.
Убедившись, что порядок восстановлен, ворон с важностью каркнул:
– Умереть наш хозяин никак не мог. Поэтому и волноваться не о чем.
– Как это… – начала было Главная Матрешка, но ворон грозно блеснул на нее своим выдающимся клювом, и та понятливо замолчала.
– А вот так, – продолжил он. – В нас он столько души вложил, что в нем-то самом ее почти не осталось. Вот и сердце не выдержало. Наш черед вкладывать. Что ж мы, не поделимся?
– А как делиться-то? – несмело подал голос странник.
– От каждого понемножку, – ворон расправил крылья и слетел на стол. Коснулся щеки замершего хозяина. – С нас не убудет…
Никто не знает точно, что именно произошло в ту ночь в домике. Но на следующий день дед Митя, кряхтя, брел по деревне, то и дело наклоняясь за каким-нибудь перышком, камушком, веточкой.
Никто не знал точно, сколько деду Мите лет.

Иллюстрация: Леонида Баранова
Автор: Рино Рэй