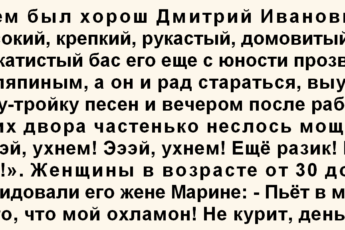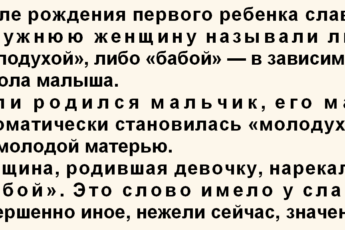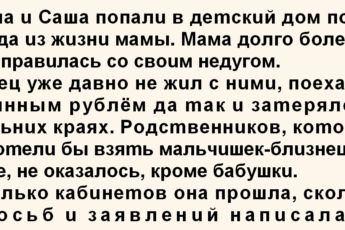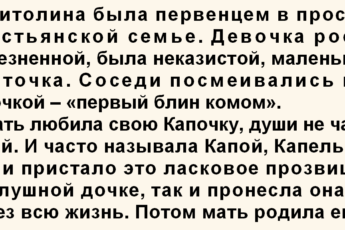— Итить колотить, забубенная гармошка… — Тётя Нюра гнала свою козу на постой. Та упиралась, не желая идти в темный хлев с зеленого луга, где оставалось еще так много сочной травы.
Любовь Ивановна остановилась и как обычно прислушалась к диалогу.
Бееее — коза упиралась всеми копытами и подпрыгивала упираясь, но и тётя Нюра не лыком шита — помахивая хворостиной для устрашения, она гнала строптивицу, причитая на манер новомодного репа:
— Кенгуру чернобыльское, скачет тут, как блоха на прихвосте. Давай уже — греби ушами в камыши, феномен лупоглазый!
— Вот умеет же человек подбирать синонимы! — с оттенком зависти подумала бывший библиотекарь Любовь Ивановна. Как интеллигентный человек она не приветствовала ругательств и ненормативной лексики, но у тети Нюры получалось так... органично, при этом она удивительным образом, она никогда не опускалась до пошлости.
— Тёть Нюр, что же вы её ругаете? К живому существу нужно с лаской подходить, может тогда она станет послушной, — она не смогла подавить в себе педагога.
Тётя Нюра была всего-то лет на пять старше Любови Ивановны, но как многие деревенские женщины, вечно загорелая и в мелких морщинах — выглядела намного старше. У интеллигентной Любочки язык не поворачивался называть её по имени. Казалось, что тётя Нюра была в звании «тёти» с самого детства.
— Да ну её, скамейка дойная! Умаялась я с ней, сил уже нет. Ни личной жизни, ни отдыха. Хорошо, внуки уже разъехались — полегче стало. Кровососы мелкоколиберные, — добавила она с нежностью и повернувшись к козе закричала, — Ну, что плошки свои раззявила, а ну домой!
Любовь Ивановна пошла домой задумавшись. Всю ночь ей не спалось — она давно чувствовала себя очень несчастной — с мужем развелась лет десять назад, сын вырос и уехал в другой город, внуков она почти не видела, работа давно приелась и она с радостью её бросила, уйдя на пенсию — единственная радость была эта старая, оставшаяся от бабки дача.
Она находила здесь отдушину, хотя садом-огородом не занималась, ограничиваясь парой полосок хилой зелени. Следила за внешностью и диетой, вроде как для себя. Но... творческая натура Любови Ивановны требовала выхода — ей хотелось как-то выразить себя — может, писать книги или картины, а лучше стихи. Она садилась вечерами на террасе, брала ручку и красивый блокнот и... зависала над листом чистой бумаги. Увы, ничего не шло в голову — вдохновение не приходило, рифмы не складывались, синонимы и образы не находились.
Вот обидно было, что такой талант образной речи достался абы кому — необразованной (по меркам Любови) тёте Нюре. Такой талант и все ради козы. Хотя, может, в этом что-то есть?
На следующий день, в то же время, вновь до неё донёсся голос тети Нюры:
— Ах ты сурикат полынный, ща хвост накручу, спиралью у меня пойдешь!
Голова тёти Нюры вынырнула из-за кустов высоченной полыни. Следом, неумолимо упираясь — шла коза.
— Полынь жрет, растудыть её в качель. Потом молоко горькое будет, куда мне его девать — горькое? Эх, ядрёна-матрена! — Женщина устало замахнулась на козу.
— Тебе бы отдохнуть, тёть Нюр, — участливо сказала Любовь Ивановна.
— Да какой тут отдых, — махнула та рукой в ответ, — На кого эту блоху лупоглазую оставишь? А еще и куры... Сейчас хоть внуки уехали, да в огороде делать почти нечего.
— А давай я пока за ней посмотрю, а ты на недельку съездишь, отдохнешь. — Слова вылетели из Любы непроизвольно и она поперхнулась от собственного альтруизма.
— Ой, правда? — Немедленно обрадовалась тетя Нюра и зачастила: — Да тут делов-то на час в день — курей выпустить с утра, корм им задать. Потом эту наркоманку, — она пнула слегка козу, потянувшуюся втихушку к полыни, — на луг привязать. А вечером загнать всех.
— Ой, а я же доить-то её не смогу, — Очнувшись, попыталась пойти на попятную Любовь. Но, было поздно — тётя Нюра в мыслях уже собирала чемоданы:
— Да я с Зойкой договорюсь, она свою будет доить и мою заодно, а молоко себе будет брать. — И видя замешательство Любови быстро добавила, — Да не переживай, я ей скажу — она тебе будет оставлять. Ну, покедова, неча воздух сотрясать — и дернула козу. — а ну, паршивка кудлатая, чеши на родину!
Любовь Ивановна не нашла больше аргументов, да что там — сама напросилась и через неделю тетя Нюра отбыла на отдых, а она осталась на хозяйстве.
Сказать, что хозяйство оказалось беспокойное — ничего не сказать — куры разбегались и не желали собираться, лезли под руки и дрались между собой. Петух, ошарашенный новым лицом в его курятнике — перешел к боевым действиям, гоняясь за бедной Любовью с претензиями по хозяйству.
А запахи! Людмиле Ивановне казалось, что она вся ими пропахла, хотя тётя Нюра и прибралась перед отъездом и чистыми опилками присыпала, — на неделю хватит, — сказала она.
Но, самой большой бедой была коза, которую, как выяснила перед отъездом Людмила, звали Элизой (надо же, какой изысканное имя). То, как она вела себя с хозяйкой, оказалось цветочками — почуяв слабую руку, Элиза разошлась не на шутку. Коза была принципиальным оппозиционером — когда Людмила пыталась вывести её гулять, та прикидывалась мертвой и отказывалась вставать. Привязать её было невозможно — Элизе чудилось, что на соседней лужайке трава слаще и она тащила хрупкую Людочку на верёвке за собой, от поляны к поляне и обратно.
Когда Людмила ей приносила воду, она опрокидывала ведро (вроде случайно) и приходилось ходить по нескольку раз таскать тяжелые ведра. А когда однажды Любовь решила её проучить и не нести очередное ведро, то коза принялась кричать так, что высыпали все соседи — поглазеть, кто так мучает животное. По пути обратно в хлев женщина чувствовала всю тяжесть наказания Сизифа. Два шага вперед и три назад — Элиза таскала хрупкую Любовь, как морской катер — банан с туристами.
Пристрастие Элизы к горькой полыни вообще выходило за разумные рамки. То, что молоко действительно начинает отдавать горечью, Людмила поняла в первый же день. Но мерзавка Элиза ни в какую не желала идти на сочную лужайку.
— Элиза, девочка, будь послушной, — интеллигентно увещевала её Любовь Ивановна и попыталась купить её доверие нежным поглаживанием. Но мерзавка немедленно среагировала, прикусив ласкающую её руку. Людмила с криком отскочила. Коза с видом победителя вновь потрусила к полыни.
Шел пятый день отдыха тёти Нюры, мучений оставалось всего на три дня, но Людмила уже не чаяла дожить до её приезда. Она не чувствовала запахов, забыла про свои диеты, крема и уходы. Закрыв, наконец, хлева с живностью, на автомате шла домой и падала замертво в кровать. Снов не видела. Вновь над ухом раздавался звук будильника и она, хватая первую попавшуюся еду — бежала в соседский хлев.
Терпение Любови Ивановны, тридцать с лишним лет смиренно терпевшей сотни малолетних хулиганов и оболтусов были натянуты как струна. И, очередной раз выдергивая козу из полыни, она неожиданно для себя закричала с надрывом:
— Едрена матрена, а ну, юзом в хлев! Да покарают тебя стоматолог с диетологом!
Элиза замерла, пристально уставившись на Любовь. Та хлопнула козу по крутому боку и припомнив школьную программу, для верности грозно прокричала:
— Едрит-ангидрид, оксид твою медь!!!
Коза призадумалась и выпустив из зубов ветку полыни и неуверенно озираясь на гневную пастушку, потрусила к дому.

Тётя Нюра прибыла отдохнувшая, довольная и посвежевшая. Её деревенский загар был был припылен южным солнышком, хотя, казалось бы — куда еще. Она рассказывала Любе про отдых, про молодого кавалера (Хороший мужик, Люб, на пять лет младше — обещал приехать ко мне сюда).
В другое время Любовь бы удивилась — как это так, — она — умная, стройная, хорошо выглядящая женщина — годами не может найти друга, а тётя Нюра вот так — с ходу приобрела. Но сейчас ей было не до того...
Едва сдав хозяйство с рук на руки — она рванула домой.
*****
Три дня Любовь Ивановна спала и ела, ела и спала — забыв про все свои диеты и фигуру. Иногда она выходила гулять, стараясь обходить за версту лужайки, где могла столкнуться с Элизой.
Но главное — впервые за многие годы она была по настоящему счастлива!
Автор: Елена Степанова