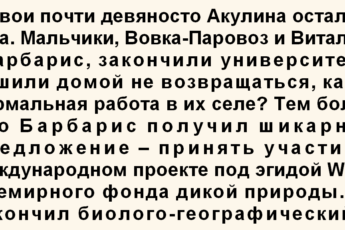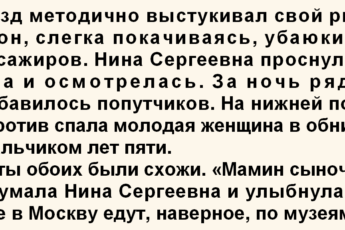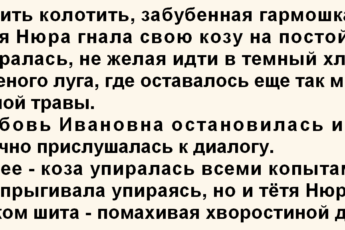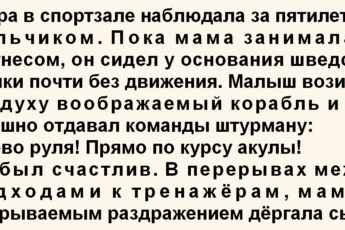Мне восемьдесят четвёртый год... Да... Как-то совсем неожиданно подкрался этот срок и дал о себе знать кашлем, одышкой, одутловатостью и болью в суставах... Но главное, главное! Пониманием отчетливым очень малого срока, отпущенного мне до ухода туда... куда-то... до расставания со всем любимым, спрятанным где-то глубоко-глубоко.
Неужели больше никогда я вместе с мамой не буду возвращаться в поздних сумерках из глухого леса в свою хотьковскую избу?.. Неужели с папой больше никогда!!! Никогда не буду я сидеть на западной трибуне московского стадиона «Динамо» на матче ЦДК-«Динамо», и папа говорит:
«Впечатление такое, что цэдэковцев больше на поле, чем динамовцев...» И не раздастся радостный, заливистый звонок моего взрослого велосипеда, а бабушка из нашего кухонного окна на четвёртом этаже не крикнет: «Эй, номер двадцать два шестьдесят четыре (это был номер моего велосипеда), идите обедать!»
Неужели никогда не замрёт мое сердце, и не двинется мягко в разные стороны оливково-серый с белоснежной чайкой среди тусклых золотых завитков мхатовский занавес, и не зальёт светом и счастьем гостиную с колоннами, с тёплым майским садом за дверьми и тремя сёстрами на авансцене?.. Да нет, не зальёт.
Неужели я до конца дней обречён смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.
Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов... Господи?
Ну что ты несёшь, дурень? Ну, конечно, нет... Но ведь было, было... счастье прошлых лет...
А ты нерадиво отнёсся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.
Вот он, девятый десяток!
Вот они — восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально... и, казалось бы...
Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Ещё один — и здравствуйте, Константин Сергеевич!» — как говорил артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Ливанов...
— Ну что ж! И там неплохая команда собирается — не так скучно будет, как на этом свете! — утешал себя один знакомый артист.
Так-то оно так...
«А вы, молодой человек, что хотите играть?» — спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович — да их там целая толпа, выбирай — не хочу!
«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова — его хотел бы. Или царя Фёдора Иоанновича — тоже неплохо... А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»
«Э-э-э, не-е-ет, — скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад „Буратино“. — Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман... Вот они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны — вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырёв, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский... Яковлев, Папанов... Стоят, толкаются, интриги плетут... Так что вы уж давайте начните с малого: „К вам Александр Андреич Чацкий!“ — и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать — ведь у нас плоховато с этим делом...»
Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток — и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора ... На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь — вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, — а там что? Заново все начинать?!
Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется...).
Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так...
Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.
Вот, собственно говоря, и все. Вечер в больнице — самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днём можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Чёрная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь. В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном — тревожно-грустные...
Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо... Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.
И в Москве в бытность мою депутатом... вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело...
Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна — жили семьей...
Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах...
Пережили войну... Керосинка, примусы, керогазы... печки...
Карточки... Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами... Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой
... Кот Барсик...
И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители... Дедушка... Агаша... Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся — Ася, Костя, папа, мама, бабушка — радостно встречали меня пирогами, чаем... Рассказы, разговоры...
Но время брало своё, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя...
Последней была Ася... Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.
Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки — все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернёшь ничего.
В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа... И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью...
Или крикнешь громко в чёрную пустоту: «Мама! Чай будешь пить? — и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»...
И вновь тишина и смерть.
Быстро прошла жизнь!
Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке.
К-7-55-63... Лиду можно?
Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые чёрные деревья, слушаю воронье карканье...
Вот собаки — бездомная дворовая стая — мои друзья... Их глава, его звали Бимом, — здоровенный чёрный дворняга — был сдержан, но приветлив. Его жена — вертлявая Бэлла — смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.
Во время съездов и съёмок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.
Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.
Подкармливал их, чем мог.
В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты — больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты — человек съесть их просто не мог, серо-зелёные какие-то... Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять-двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.
И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты...
Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.
Пошёл к мяснику в магазин.
За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку из много-много кусков.
Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.
Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошёл и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Беллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.
Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.
Я ещё и ещё давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошёл и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.
Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.
Посмотрел вверх, на голый пустой балкон чёрной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой... Посмотрел на Бима... на собак... Они вильнули хвостами...
Я сказал им: «Пока!» — и пошёл на вокзал.
Больше я их никогда не видел.

Автор: О. Басилашвили