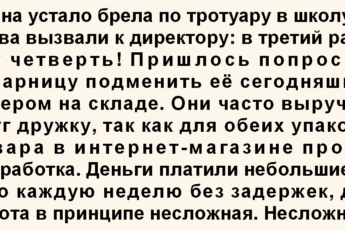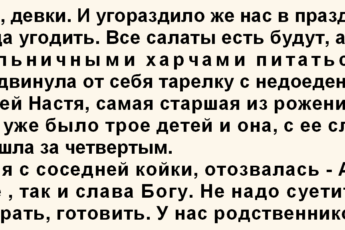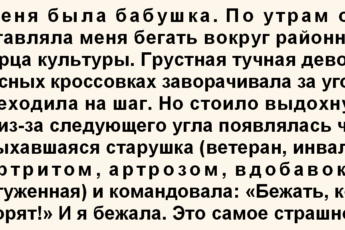— Вот вернётся сынок и всё у нас наладится, — по привычке произнесла Семёновна и руки женщины застыли под выменем Зорьки.
— Ну да-ну да, — закивала соседка, прошамкав беззубым ртом. — Обязательно. А как же иначе...
Она сама уже не верила в то о чём говорила. Тяжело вздохнув женщина продолжила работу. Струйки выдавливаемого из вымени молока журчали в наполовину заполненном ведре.
— И всё-таки сорок шестой уже заканчивается, — подливала масла в огонь Терехова. — Семёновна ты запрос в военкомат-то сделала?
— Сделала.
Вот что за баба такая противная? Каждый раз её спрашивала об одном и том же! Самой-то хорошо. И муж, и сын вернулись живыми. Вся деревня ей завидовала и ревела в подушку.
— Пока ничего не сообщали?
— Нет, Клава. Не сообщали.
Да ничего она не делала. Не делала. НЕ ДЕЛАЛА! И не от лени, а потому что... потому что им ещё полгода назад похоронка на Олежу пришла.
Зорька замычала и смахнула хвостом большую муху с со спины.
Младшим — Митьке и Таньке Семёновна ничего не сказала, и они каждый битый день бегали на вокзал встречать поезд. Не смогла. Да и сама всё ещё верила. Скорее даже заставляла себя верить. Вон у Демидовны на сына тоже похоронка в 1942 году приходила, а Игорь вернулся. Хоть без ног, но вернулся.
Домой возвращалась одна. Ноги гудели от усталости, болела спина. Остановившись возле озера Семёновна вышла на хлипкий мостик и взглянула на своё отражение в воде. Платок подаренный сыном слетел с побитой сединой головы. Она теперь почти и не снимала его.
Старуха! А ведь ей нет ещё и сорока одного. Поседела женщина за ночь, когда прочла несколько лаконичных предложений и в том числе: «... в бою за Социалистичискую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был убит 12 декабря 1944 года у деревни Даргужяй...» Слёзы хлынули из глаз женщины капая на спокойную поверхность озера и своё отражение. Та в озере тоже плакала.
После этого ей будто становилось легче. Будто Семёновна смогла с кем-то разделить свою тайну. Бабам она сообщать о смерти сына не собиралась. Потому что не хотела ощущать на себе эти жалостливые взгляды, неловкие объятия, ничего не значащие глупые слова. Почему? Просто тогда сынок уже точно будет мёртв... даже в её мыслях.
И всё же она каждый раз в надежде вскидывала голову, когда половица у входной двери скрипела. Глупо.
Танька была ещё в школе, а вот Митька опять куда-то запропастился. Еда на столе была даже не тронута. Наверняка гоняет с пацанами возле реки, пускает свои кораблики, и о времени совсем забыл.
Затопив печь Семёновна разогрела картошку, немножко без аппетита поела. Свой кусок хлеба осторожно завернула в чистое полотенце. Ребятишки растут, им нужнее.
Сидя у окна она вспоминала как провожала на войну мужа, сына и брата. Вот под той покрытой сейчас белыми цветами яблоней они и прощались навсегда. Степана убило под Москвой через несколько месяцев, братишку в сорок третьем под Ленинградом, а Олежа… Олежа в госпитале полежал и снова воевать. С
емёновна тогда даже поверила, что ничего с ним не случится. Дура! Многое бы она сейчас отдала только за то чтобы обнять сыночка как тогда… под яблоней. Смахнув крупную слезу с щеки, женщина погнала из головы мысли о том, что негоже младших обманывать. Они же на этот проклятый вокзал как на работу ходят и в дождь, и в стужу: «Мама, а вдруг Олежа сегодня приедет, а мы его не встретили. Так нельзя».
Горестный вздох заставил сердце забиться в грудной клетке, дыхание спёрло. Надо жить ради детишек. Она супругу обещала. Жить несмотря ни на что. И молока раздобыть полную крынку, а то младший совсем бледный.
Через комнату тревожно мяукнув пробежала Муська, старая облезлая кошка, пережившая с ними голод и оккупацию. И куда это она? Обычно лежит на окне не сгонишь. А тут…
Раздался скрип половицы у двери, и Семёновна с новыми силами напустилась на Митьку наверняка опять промочившего ноги:
— Ну где ты болтаешься шалопай? Картошку уже подогревала дважды и снова остыла...
МЯУ! – кошачье тело трётся о кирзовые сапоги.
На своих двоих, блеск голубых глаз, сверкание наград на широкой груди, по которым проскользнул лучик света из окна заставив ярко вспыхнуть золотом и серебром, погоны с тремя звёздочками, слёзы потоком хлынувшие из глаз и тёплые объятия назло смертям.
— Здравствуй мама. Я живой...