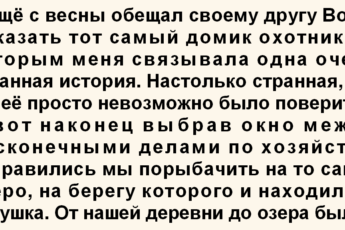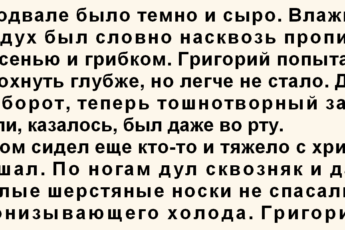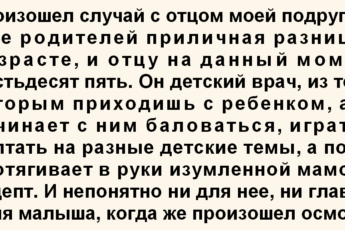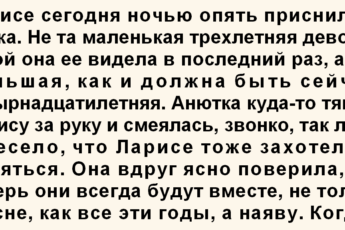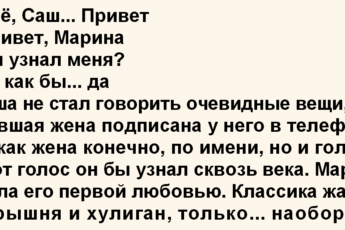Лет до двадцати семи я помнила «всю свою жизнь» очень ясно, вплоть до каких-то младенческих будней. А после вдруг забыла все к чёртовой матери — как выключили. Нет, конечно, я могла рассказать что-то по накатанным рельсам, но вот картинок больше не показывали.
А тут эта унылая свистопляска с выборами, и, видимо, я так упорно, с такой неотступной ледяной ненавистью думала об этих лживых восьмидесятых, что мне показали во сне два куска из детства. И я написала мемуар – настоящий мемуар, долгий и подробный, как супружеская обязанность — сочинение на тему «Как я провел жизнь».
Давным-давно, когда мне было лет девять, наши соседи по площадке, — одна еврейская семья, — добились разрешения на выезд в Израиль.
Была эпоха застоя (до сих пор не понимаю – почему «эпоха», это же лет десять всего?), и простое путешествие весьма парадно обставлялось – отъезжант объявлялся предателем Родины и врагом, должен был сдать квартиру и машину, по-моему, государству и подписать бумажку о том, что никогда-никогда не вернется. А еще его клеймили в газетах и по телеку. Не знаю, со всеми так было или нет, но Марика (конечно, его звали Мариком, как же еще?) это дело не обошло.
Наше парадное наводнили массмедиа – я не очень хорошо все помню, так — рваный видеоряд.
Вот Марик, представитель редкой для мужчины интеллигентной профессии «библиотекарь», бледный, рыхлый, круглый, похожий даже не на луну – на отражение луны в тёмной воде, и вся его перепуганная семья (маленькая еврейская жена, маленькая еврейская тёща и двое маленьких толстеньких очкастых еврейских детей) сидят на чемоданах в почти уже пустой квартире, на них светят софитами злые дядьки, а злая тётка лающим голосом задает злые вопросы и тычет им в лица микрофоном.
Марик отвечал им очень тихо, и взгляд у него был совсем подводный – в себя. Я вообще удивляюсь, как он смог все это вынести – маленький тихий человечек, который никогда не поднимал глаз. И ходил-то он боком, вдоль стеночки, и в лифте ему никогда не хватало места, а тут такое...
Я понимала, что всё у них плохо, но завидовала страшно – ещё бы, они уезжают путешествовать и увидят весь мир.
Откуда-то я знала, что не каждый может уехать странствовать, а уж я – точно никогда. Мама мне часто повторяла «Не высовывайся, горе моё. Если не научишься молчать – посадят тебя, вот увидишь. А я тебе буду пирожки носить». Тюрьма и пирожки почему-то были неразделимы в мамином понимании, а так как со мной «всё было ясно», то первое, что мама научилась готовить, – это они и были.
Она как раз и пекла пирожки, когда к нам пришел человек в кепке и в каком-то на редкость мерзком синем плаще и сказал маме, что она должна подписать письмо в газету от возмущенной подлым предательством общественности.
Мама вздохнула, кивнула и прошла в кухню, на ходу вытирая руки. Человек, затаив дыхание, проследовал за ней, сел и даже снял кепку. Это всегда так было: мама была очень красивая – невысокая, ладная, зеленоглазая, с длинными каштановыми кудрями, которые никакими шпильками не удержать. Вот и тогда она раздражённо мотнула головой, по полу зазвенело, а волосы свободно рассыпались по спине. Дядька совсем забыл дышать, вспотел и судорожно сжал кепку, а мама, закрутив волосы в пучок и мимоходом закрепив их дядькиной же авторучкой, сказала:
– Ну, что тут у вас, давайте. Гло, принеси ручку...
У дядьки, наконец, появился повод отвести глаза от моей родной матери, он посмотрел на меня, потом опять на неё – и стал сублимировать сексуальную энергию в творческую.
– Так, – сказал он, – подождите. Пусть ваша девочка переоденется в школьную форму. А? Ты же в школу ходишь? – это уже мне. – И вы тоже что-нибудь такое наденьте... э-э... поспокойнее, – добавил он, стараясь не смотреть на мамину открытую кофточку в васильках. – Ну-у-у... э-э-э... вы понимаете? Поскромнее... А я сейчас за фотографом схожу, и мы вас сфотографируем для газеты – как вы подписываете письмо. А?
Он дёрнулся было с табуретки к выходу, но тут на сцену внезапно вышла я и, сжимая кулаки, сказала тихо-тихо:
– Ничего мы не будем подписывать. И в газету нас не надо. А они никакие не предатели, а просто уезжают. А вы всё врете. А они никакие не предатели, мы их знаем давно — они хорошие. А мы ничего плохого не будем про них писать, правда, мама? – спросила я, не оборачиваясь.
Дядька от неожиданности рухнул обратно на табуретку, глядя на меня ошалело и гадливо, как на заговорившую жабу. Потом приосанился, встал и попытался взять меня за плечо, но я отпрыгнула. Тогда он строго сказал маме:
– Что же вы дочку свою так плохо воспитали? Что она несёт? Вы смотрите за ней, иначе...
Он укоризненно покачал головой, а мама, демонически расхохотавшись (красивые женщины себе это позволяют), спросила, наступая на него:
– А иначе — что? Посадите девятилетнего ребенка, что ли? (И далась ей эта тюрьма!)
Мама нервно поправила причёску, обнаружила там ручку, выдернула её, села к столу, быстро подписала бумагу и, царственно протянув её дядьке, сказала:
– Вот. Берите и уходите.
Дядька помялся, но бумажку взял и ушёл, тихонько прикрыв дверь, – против мамы приема не было.
А она, тяжело сложив руки на столе, сказала мне:
– Ну что ты вытворяешь, а? Вот теперь на работу донесёт и начнётся... Ты же не понимаешь, что делаешь, у нас теперь такие неприятности будут...
В этот момент в дверь снова позвонили, мама вздрогнула, схватилась за сердце и пошла открывать.
На пороге стояла Раиса Михална, Марикина тёща, держа в руках как хлеб-соль синюю бархатную коробочку.
– Аничка, можно к вам? – спросила она робко. Мама буркнула:
– Конечно. Проходите, – и кинулась к духовке с пирожками. Ей было стыдно из-за письма.
Раиса Михална прокралась к столу и села на табуретку из-под дядьки.
Мама, пошуровав в духовке, поставила на стол тарелку с пирожками. И села сама – уже с законно покрасневшим лицом.
– Вот, – сказала она, пододвигая тарелку к гостье, – угощайтесь. Чаю сейчас ещё... Доча, поставь чайник, пожалуйста. Что вы хотели, Раиса Михална?
– Аничка... Мой Мурзилочка... Вы понимаете, мы уезжаем и никак не можем взять его. Я хотела вас просить... Присмотрите...
Раиса Михална поднесла руку к лицу и прикрыла глаза, сдерживая слезы.
Мурзилочка – это был кот, редкая дворовая дрянь. И как только такой вырос в приличной еврейской семье? Здоровенный, рыжий, облезлый крысолов, почти без ушей — он шлялся, где хотел, изредка вызывая Раису Михалну из дома воплями.
Она выходила, выносила ему тарелочку рыбного фарша и сидела рядом на скамейке, а Мурзилочка быстро и неопрятно пожирал принесенные дары. Потом он вытирал лицо руками, забирался на колени к хозяйке и звонко урчал, пока та его наглаживала.
Вот такая была у них любовь.
Мама, ненавидевшая кошек всем сердцем, участливо кивнула.
– Не беспокойтесь, Раисочка Михална. Девочка моя очень любит зверушек, вечно в дом тащит всякую сво..., то есть птичек там всяких, ёжиков, ужиков...
Присмотрим за вашим котиком...
– Аничка, спасибо. Вы — добрая душа. Вот, я хотела... на память... не подумайте плохого...
Гостья протянула маме принесённую коробочку.
– Ну что вы, – сказала мама и поставила коробочку на стол. – Ну что вы, ничего не надо.
Но, не совладав с любопытством, всё-таки открыла. Мне тоже стало интересно. Я подлезла под материнский локоть и заглянула в коробку.
Там, в синей бархатной мгле, мерцали змейками серебряные ложки – ровно дюжина редких красоток с тонкими дивными хвостиками.
Мама ахнула, потрогала пальцем бархат:
– Ну куда нам, – сказала она, как-то беспомощно обводя рукою кухню. – Нет, мы не можем взять, извините...
– Это мамины, – Раиса Михална все-таки заплакала. – Мамины... Я не хотела продавать. Хотела оставить кому-нибудь. Не подумайте плохого...
Она плакала горько, как маленькая, вытирая слёзы пухлыми кулачками, и мне стало так жаль её, как будто это я была – хорошая еврейская женщина, а она – сероглазое тонкорукое дитя.
– Мама, мам, давай возьмем их, мам? Видишь, она же плачет... Ну мам... их же нельзя чужим... Смотри, они как живые... А мы их спрячем, а потом отдадим. А, мам? – засуетилась я.
Мама вдруг тоже засопела и разревелась.
– Не плачьте, Раисочка Михална, не надо, – всхлипывала она. – Конечно же, приносите... что хотите... Мы всё сохраним, не беспокойтесь...
Тут мама набралась мужества и сказала:
– Простите меня, пожалуйста, Раиса Михална... Я подписала какую-то гадкую бумагу против вас.
А Раиса Михална сказала:
– Это ничего, я всё понимаю – вам здесь жить...
Они сидели и рыдали, не обнимаясь и даже не держась за руки, они же не были подругами, понимаете, а я стояла рядом как дурочка и не знала, кому сунуть огромный клетчатый платок. Он был один.
Так у нас появился «кот с приданым» – дюжина серебряных ложек и две хрупкие фарфоровые чашки: белая и золотая.
Ложки были сразу похоронены в нижнем ящике комода под льняными простынями, а чашки арестованы на полке за стеклом – из них так никто никогда и не пил.
Я как-то раз спросила маму:
– А почему ты ими не пользуешься, мам? Они же красивые.
Мама пожала плечами.
– Не знаю. Не могу. Я буду чувствовать себя мародёром, понимаешь?
А кот ничего, прижился. Правда, не без сложностей. Для начала ему пришлось сменить привычки.
Мама ленилась выходить за ним на улицу, и я две недели обольщала мерзавца, чтобы приучить его обедать дома (заодно научила приходить на свист). Очень удобно: вышел, свистнул, и вот он – кот.
Потом мама и Мурзилка пали жертвами рока.
Мама терпеть не могла кошек — не переносила просто, а они к ней, наоборот, липли и лезли. Вот и Мурза, завидев маму, бросался к ней, ластился, льнул и тоскливо орал: «Ыу... ыу!»
Мама, брезгливо поджимая ноги, не менее тоскливо орала:
– Ой, уйди от меня, гадина! Не трогай меня! Уйди, гадина!..
Понятно, что через месяц кот отзывался только на «гадину», ну и на свист, но свистеть мама не умела.
Всё бы хорошо, но кота регулярно воровали окрестные дворники – потому что крысолов. И если Гадина не появлялся дома больше суток, мама начинала тихо паниковать.
– Украли, опять украли нашего Гадину, – причитала она. – Изверги, уморят животное... Как я посмотрю в глаза Раисе Михалне?
– И правда – как? – удивлялась я. – Она же в Израиле.
Мама смотрела на меня с упрёком.
– Ты тоже – безжалостный изверг, – говорила она. – Идём искать кота. Немедленно.
И мы отправлялись в поход. Мама шла, устало цокая каблучками, и, не стесняясь, голосила:
– Гадина! Гадина! Где ты, Гадина? Отзовись!
А я таксой шныряла вокруг, заглядывая во все подвальные окошки. В конце концов из очередной дыры раздавалось знакомое «ы-ы-а-а-а-у!»
Оставив меня морально поддерживать заключенного, мама разъярённой птичкой бросалась к вору-дворнику.
– Бессовестный, жестокий человек! – наскакивала она на беднягу. – Сейчас же отпустите нашего котика!
– Да что вы, гражданочка, шумите? – тот вяло тащился к подвальной двери, гремя ключами. – Ну, посидел денёк. Так крысы ж одолели...
– Денёк?! – голос мамы достигал трагических высот. – Вас бы на денек в карцер, да без воды! Вы ведь даже пить ему не давали!
Дворник чесал пузо и покаянно вздыхал.
– Ваша правда... Не подумал я чё-та про воду...
Освобожденный узник не спешил покидать темницу. Нет, он, конечно, выбегал, танцевал вокруг нас индейский танец, а потом, поминутно оглядываясь, возвращался в подвал, откуда и взывал.
– Пойди, посмотри, – говорила мне мама, поёживаясь. – Он же не отстанет. А ты не боишься.
Я осторожно ступала в полутёмный подвал, где Гадина, горделиво задрав хвост, прогуливался вдоль аккуратного рядка крысиных трупов.
– Мальчик, ты молодец, – гладила я героя. – А теперь пойдем, а? Хорош уже хвастаться.
Мы возвращались домой, мама кормила кота и, пока он ел, гладила его ногой за ушком. Трогать кошек руками она так и не научилась.
Гадина прожил у нас лет пять и, несмотря на перемены (у мамы появился муж, а у меня – собака), был, похоже, всем доволен.
У мамы, мучимой тем, что она так и не смогла побороть своей неприязни к кошкам, появилась странная привычка подолгу беседовать с котом и даже читать ему вслух из «Пармской обители» и «Писем незнакомки», да.
Отчим, посмеиваясь над ней, спрашивал:
– Что, не заговорил еще твой Пьер Без Ухов?
Картинка и впрямь была забавная – круглоголовый, почти лишившийся в драках ушей Гадина, похожий на кормленую четвероногую совушку, смирно сидел на табуретке и очень внимательно следил, как мама переворачивает страницы. Если же она останавливалась и глядела на него, кот говорил «м-мэ...» и тянул к маме переднюю лапку: продолжай, мол, что там дальше?
Но умирать он ушел под дверь к своим бывшим хозяевам. Там я его и нашла, выходя ранним утром на пробежку, – свернувшегося тугим бубликом и уже окоченевшего.
Я разбудила маму, она пришла, опустилась на корточки рядом с котом, тихо заплакала.
– Какой кот был, какой кот... Не забыл свою Раису, любил ведь её...
– Мам, – я погладила её по руке. – Ну тебя-то он тоже любил.
– Ах, ты не понимаешь, – сказала мама. – У нас были очень непростые отношения. Да, непростые...

Автор: Глория Му