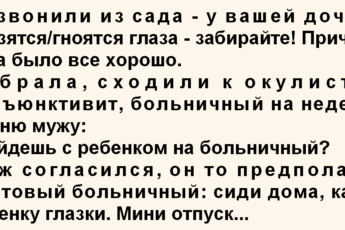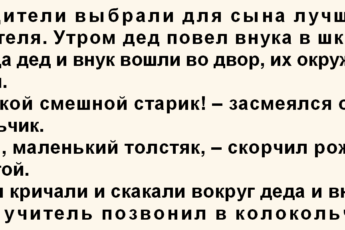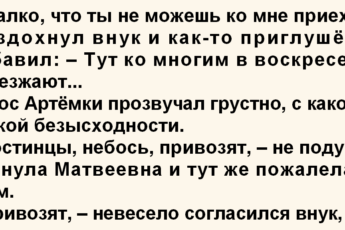Девочки всегда так медленно собираются. Это вызывает определенное раздражение. Сегодня хочется побыть одной. После этой бессонной ночи.
Преподаватель хореографии Анна Павловна, женщина немногим за сорок, полноватая, невысокая, строгая, с безупречным вкусом и манерами, стояла и слушала как девочки, занимающиеся в ее школе, щебечут в раздевалке, переодеваясь после урока.
Во время урока она строго пресекала любые их попытки переговариваться или отвлекаться на что-то кроме танца. А в короткие переменки девочки предпочитали сбегать попить воды и отдышаться. Поэтому сборы домой были для них единственной возможностью поболтать и посплетничать о своем, о девичьем.
Она это понимала и обычно снисходительно относилась к их долгим сборам. Сегодня же ей хотелось остаться в пустом классе одной. Она знала, что на улице у нее пропадет это желание – чудесная весенняя погода выгнала жителей города из домов, и город пел и щебетал так же как сейчас девчонки-балерины.
Анна Павловна хотела ненадолго остаться наедине с собой, заглянуть в себя и прислушаться к своему настроению.
Наконец стала хлопать входная дверь и она услышала прощальные возгласы своих учениц. Еще раз. Еще. И еще.
Все? Все ушли? Анна Павловна сходила в раздевалку. Убедилась, что школа опустела. И легко вздохнула. Она почувствовала, как просто физически была скованна чужим присутствием.
Вернувшись в зал, она прошлась по периметру, скользя рукой по штакетине станка. Ее внимание привлекло собственное отражение в огромном зеркале. Она отошла на середину класса, внимательно глядя себе в глаза. Потом медленно осмотрела свою фигуру — располневшую, с мягкими формами и скованными движениями.
Встала на полупальцы, вытянула руки в третью позицию, раскрыла руки и опустила их в алянже. Вновь подняла руки до второй позиции и подняла ногу в пассэ, попыталась сделать антурнан, однако, потерпела фиаско. Тонкая стопа не выдерживала веса, живот перевешивал и вообще выглядело это отвратительно. Ее губы презрительно и горько скривились.
«Пузцо…»
Анна попыталась втянуть живот, повернулась – живот все-равно выпирал и натягивал безупречно сшитые брюки.
«Животы подтянуть! Задницу собрать! Подбородок выше! Руки держим!» – командовала сама себе Анна, передразнивая свою преподавательницу из Академии – Римму Владиславовну.
Анна застыла на полупальцах, ощутимо напрягая все тело в стремлении вскочить выше. Она наслаждалась эти дрожанием и ощущением каждой мышцы.
Мускулы призывно откликались на ее призыв, как давно забытые в клетках животные из приюта. Постояв так и ощущая давно забытое наслаждение от управления своим послушным и терпеливым телом, она резко расслабилась.
«Мда…Балет Памфилова».
Анна перевела взгляд на свое лицо. Глаза. Мимика. Привычно вздернула подбородок и привычно растянула губы в сценической улыбке, заставив глаза сиять. Хорошая актриса умеет показать, что искренне заинтересована.
Медленно подошла с такой лучезарной улыбкой поближе к зеркалу. Штанкета станка уперлась в ребра, не подпуская ее к зеркальной стене. Но она вжала деревянный брусок в свой живот, подтягивая руками и приблизила свое лицо к своему отражению.
Теперь она не видела ничего кроме своих глаз. Она стояла так и всматривалась в эту глубину. А на лице по-прежнему играла фальшиво-искренняя улыбка. Иногда она так готовилась к спектаклям.
Станцевать – это полдела. Надо не просто танцевать. Надо жить. И тогда она стояла вот так возле зеркала и всматривалась в свое отражение, потом придумывала слова своей героине.
На сцене за нее говорили руки и ноги. Но в репетиционном классе она играла как в жизни, воображая там за стеклом внимательных зрителей. Она разговаривала с ними. И вот сейчас, привычно и легко она снова заговорила с несуществующими зрителями в несуществующем зрительном зале. Только никакой роли или героини уже не было.
«Бог не Тимошка – видит немножко. Все сложилось так, как должно было. Тяжело было? Конечно! А как вы думаете? В какой-то момент штырей в моей ноге и позвоночнике было, наверное, больше чем костей. – Анна засмеялась деланным смехом. — Но я ушла красиво! Красииивооо… ты вошла в мою грешную жизнь. Красиииииивооооо ты ушла из нее.
Ладно, это было не красиво. Но эффектно! На карете! В разгар спектакля! Из-за меня стоял на ушах весь театр, черт побери! На карете, как настоящая принцесса! В цвете и блеске славы, в самый пик своей карьеры! – ее смех становился все более деланным и ненатуральным. – В прекрасном наряде принцессы Авроры.
У зрителей, наверное, было дежавю: во второй сцене меня унесли на носилках, и тут в третьей сцене опять носилки. А что вы хотели – спящая Аврора танцевала-танцевала и заснула! Ахаха! Честное слово, это слишком хорошо для того, чтобы быть просто нелепым стечением обстоятельств!
Я думаю, что этот седовласый старик на небе здорово похихикал, когда тень Авроры понесли тем же манером, что и саму Аврору!»
Анна Павловна резко оборвала свою истерику, что не составляло для нее большого труда, ведь за годы непосильной муштры в колледже и академии, она привыкла управлять всеми своими эмоциями просто великолепно.
Но сейчас, посреди пустого хореографического класса ей вовсе не хотелось управлять собой. Она почти бессильно опустилась на пол и потрогала складки на своем животе. В этом жесте не было ни капли кокетства, как у некоторых женщин – «ах, не убеждайте меня, что я стройная, я знаю что вы мне льстите»! В этом жесте была усталость.
«Чем больше морщин на моем лице и килограммов на моей талии, тем большую благодарность я испытываю к тому, что произошло. Можете мне не верить. И знаете, что? Можете вообще делать что угодно – ведь никого из вас не существует на самом деле. Да! Вы всего лишь мое воображение. Нет. Не воображение. Моя …. Совесть? Да бог с вами со всеми.
Кто бы или что бы вы ни было, вы обладаете потрясающим качеством: вы молчите и слушаете. А мне это и надо! Я расскажу сейчас одну историю. Я всегда врала во всех интервью, что это был танец в Аленьком цветочке. Но перед вами я не буду врать.
Мы же тут для этого – чтобы я сказала правду. А правда вот она: я не помню свой первый танец. И второй не помню. Вроде бы когда-то я танцевала в «Трех поросятах». Потом в «Мухе-цокотухе».
А кстати, в «Аленьком цветочке» я танцевала уже намного позднее. И не главную роль, а партию Чудовища! Что? Еще хотите правду? Вам понравилось? Хорошо… Правда номер два: у меня сумасшедшая мать. Нет, она не просто слегка мило странноватая… Она сумасшедшая. По-настоящему. Я ее плохо помню.
Помню ее «приступы», как называл это отец. Один раз я пришла домой, а она сидела и отрезала себе ножницами подушечки на пальцах. У нее там иголки были. Понимаете? Ну, то есть ей казалось, что ей в пальцы кто-то засунул иголки. И она не могла с ними жить. Она сначала плакала, потом не спала ночами и плакала ночами.
Она не могла ничего делать – даже кружку держать. Ей по-настоящему было больно. Мы ее кормили с ложечки. А она только плакала и просила нас вытащить иголки. Она смотрела на нас и спрашивала – почему мы такие жестокие, почему мы не хотим ей помочь вытащить их, почему мы не можем прогнать каких-то «ежиков», которые смеются над ней и вставляют в ее пальцы иголки.
Когда отец уходил на работу, он каждый раз умолял ее дождаться его. Он говорил ей, что обязательно вечером принесет средство «против ежиков» и вытащит иголки.
Она всегда так радовалась его приходу, бежала к нему, с такой надеждой заглядывала ему в глаза и кричала ежикам, что «вот…. сейчас… вот сейчас он их прогонит, и они больше не будут над ней смеяться и мучить ее».
И каждый раз он говорил ей, что сегодня не принес средство от ежиков. Она сначала старалась не плакать, не ругать его. Просто ее плечи опускались, она растопыривала пальцы и шла в комнату.
Но с каждым днем дальше, она все острее реагировала на приход отца. В конце концов она уже с ненавистью смотрела на дверь комнаты, когда слышала, что он приходит. Понимаете?
Она искренне надеялась, что любимый мужчина избавит ее от страданий. И вот как-то раз она не выдержала. И отрезала себе подушечки на пальцах. Ножницами. Я пришла домой и видела, как она отрезала себе последнюю подушечку.
Она смеялась от удовольствия! Потом окровавленными руками она гладила меня и говорила, как это приятно наконец опять что-нибудь потрогать без иголок. Она гладила и гладила меня.
Гладила и гладила. По лицу, по волосам. Мои волосы были пропитаны кровью. Я плакала. А она смеялась. Она была так счастлива! Она смеялась и целовала меня. Это был последний раз, когда она меня целовала.
Анна сидела на полу посередине балетного класса, обняв свои ноги руками и раскачивалась из стороны в сторону, как от невыносимой боли. Ее модная и безупречная прическа растрепалась и полуразвившиеся локоны печально повисли вокруг бледного одутловатого лица, придавая всей ее фигуре комично-трагичный вид.
Как будто постаревший и располневший Пьеро все еще рыдает о своей Мальвине. Анна больше не смотрела в свое отражение, ее глаза были почти закрыты. И ее слова, падавшие в тишине этой пустой комнаты, были почти неслышны за веселым гулом улицы, радующейся прекрасной погоде.
«Я плохо ее помню такой. Тогда она была еще нормальная. А потом ее забрали в больницу, и она стала больше времени проводить в больнице, чем дома. Эти иголки… Она никуда не пропали. Потом они появились в губах, потом в ногах, потом в глазах. Это было ужасно.
Я помню это. Когда иголки были в губах – она не могла говорить. Она смотрела на нас с папой, широко открыв рот и выпятив губы, что-то показывала глазами, но ничего не могла сказать. Только мычала. Она не могла шевелить губами.
Ей было от этого больно, ведь с каждым движением иголки все сильнее впивались в ее губы. И в глазах… Потом иголки были в глазах. Она не могла их закрывать. Я не помню, какое у мамы лицо в нормальном состоянии. Но я помню вот то лицо — с выпяченными губами и широко открытыми глазами. Но вы понимаете, глаза жили!
Все ее тело было нашпиговано иголками – с растопыренными пальцами и руками, в раскоряченными ногами. Она не могла ни есть, ни спать, ни сидеть, ни лежать. А глаза жили. Я клянусь! Клянусь, что она узнавала меня!
И она что-то мне говорила! Глазами! Ее глаза были нормальными! Она что-то хотела мне сказать! И она там внутри… внутри этого бедного мучимого тела, там внутри она была живая!»
Плечи Анны затряслись от рыданий, из горла вырвался стон. Они сидела, запрокинув лицо к потолку, и слезы текли по ее вискам, как две мутные реки, размывая макияж, прокладывая себе дорогу в слое тонального крема.
Она рыдала так, как не рыдала, наверное, уже лет тридцать – как ребенок: всхлипывая, надувая пузыри, ничего и никого не замечая вокруг. Казалось, что этой истерике не будет конца. Но все когда-нибудь кончается.
Постепенно рыдания стали тише, слезы иссякли, гулкое эхо пустого класса перестало разность от зеркала к зеркалу стенания и плач. Анна, обессиленная, легла грязной щекой на пол и подтянула ноги к груди.
В классе стемнело. Легкие шторы пропускали теперь уже не солнечный свет, а свет зажигающихся фонарей – контрастный, неживой, резкий, превращающий все предметы в подобие предметов.
От такого света хореографический зал стал сумрачным, он превратился в насупленного раздраженного старика и с отвращением разглядывал скрюченную фигуру полной женщины на полу, высокомерно и осуждающе показывая ее в многочисленных зеркалах.
Тон бедной женщины как будто в ответ на безмолвное осуждение класса стал спокойно-отрешенным и холодно-высокомерным. Как будто говорила растерзанная кукла.
«Вы не думайте, я не постоянно думаю о ней. Это было давно. А время лечит. Я уже почти забыла ее. Хожу раз в год на кладбище. Мы с папой приносим ей цветы. Знаете, когда она умерла, он заказал ей огромный гроб. И выстелил его пухом.
Она лежала в нем как на облаке. Он плакал и постоянно твердил одну и ту же фразу, что если он не смог при жизни сделать так, чтобы ее ничто не кололо, то хоть похоронит ее в мягком пуху.
Это было мило, конечно. Он ее любил. Потому что она была безумно красива. Красивее меня! Намного! Вам кажется, что я красива? Ну ладно, не сейчас. Но тогда – шесть лет назад, когда я последний раз танцевала Аврору…
Я видела фото. Я была красива. Очень. Я смотрела на себя и не могла поверить, что это я. Эта сказочная принцесса – с такими тонкими руками, такой лебединой шеей, таким идеальным овалом лица, огромными сияющими глазами, белой кожей. Боже! Это была я! Я знаю, что по мне сходили с ума все. Их всех просто корежило от меня! Они не могли находиться рядом со мной… Я мало говорила, а они ждали, когда я посмотрю на них и что-нибудь скажу им, или улыбнусь.
Я была для этого театра как икона. Когда надо было, чтобы кто-то сошел с ума – приглашали меня. И я ничего не делала. Все делали мои гримеры и стилисты. А я потом приходила, поднимала свои глаза на них, смотрела внимательно и слегка улыбалась. Все!
Потом я, бывало, еще немного танцевала. И снова смотрела. Еще чуть побольше улыбалась. А потом мне писали, звонили, посылали мне подарки, ждали возле служебного входа. Каждый из них хотел обладать мной.
Чтобы те руки, которые так нежно порхают на сцене, обвили шею или спину. Чтобы эти ноги, которые несут меня в прыжке через всю сцену, закинулись на бедро. Чтобы эта шея, которой завидовали все балерины нашего театра, склонилась над лицом. Так вот, представьте, что моя мама была красивее меня. И папа обладал такой женщиной. Счастливчик!
«Так… я недавно сказала что-то важное… Мммм… Так, так. Что-то про маму, про красоту. Нет. Это все не то. А! Вспомнила. Я сказала: «Время лечит». Это неправда, конечно. Время калечит. И убивает. Оно убило мою маму. Оно подбиралось и ко мне.
Это было шесть лет назад. Как раз тогда, когда все это случилось. Это ведь не замечаешь. Оно происходит постепенно. Нет такого момента в жизни, когда ты понимаешь, что твое время прошло.
Нет отметки в календаре, ассистент режиссера не принесет тебе план и график на следующий квартал с пометкой «с этого дня вы больше не звезда, вы будете считаться престарелой артисткой».
То есть все будет происходить постепенно: сегодня ты ошибешься в партии, завтра тебе не дадут спектакль под предлогом, что ты и так сильно загружена. Послезавтра тебя не возьмут на гастроли. После-послезавтра спектакль уже не с твоим участием отправят на престижный конкурс.
И так постепенно ты поймешь, что вот уже несколько месяцев тебя не приглашают в чиллаут, а возле служебного входа новая профурсетка садится в мерседес с тем «очень важным человеком», который еще недавно дарил тебе колье.
И когда-нибудь, директор театра, пряча глаза, скажет тебе: «Дорогая, мы все восхищаемся Вами, Вашим потрясающим талантом. Этот театр не знал примы более достойной называться этим званием, чем Вы. Но, сами понимаете, возраст. Вам уже тяжело. И (скажет он, нервно похихикивая) надо дать дорогу молодым. А Вам надо занять подобающее Вам и Вашему таланту место балетмейстера и педагога». Так это происходит? Я не знаю.
Меня Бог спас от этого унижения. Так вам не кажется, что эта процедура очень напоминает те самые иголки, которые эти неведомые, вечно шепчущиеся и хихикающие по углам, ежики засовывали в мою маму? Эти ласточки старости… Иглы времени. И апофеоз – меч слов директора, разрезающий твою жизнь пополам: на ДО и ПОСЛЕ!»
Весь хореографический зал сотрясался от ее крика. Фигура женщины металась по классу как по залу суда, пытаясь отстоять свою жизнь пред лицом неумолимых судей, выносящих ей привычный и неизбежный приговор.
«Вы этого хотели? Чтобы в итоге я как мама стала раскоряченной куклой? От всаживаемых в меня каждый день игл подходящей старости? Да? Вы хотели увидеть, как мое лицо будет покрываться морщинами, а мое имя пеплом? НЕЕЕЕТ! Бог – не Тимошка, видит немножко! Он не допустил этого! Он послал мне эту декорацию ограды, рухнувшую во время спектакля на мой позвоночник и перебившей мою карьеру примы. В один момент!»
Ее лицо превратилось в оскал, отражаемый всем зеркалами класса. В сумерках ее темный костюм и черные волосы не были видны, а бледное лицо ловило все блики неживого света уличных фонарей.
От этого казалось, что лицо плавает в темноте комнаты без остального тела. И каждое зеркало отражало его многократно, а на нем была написана боль – та самая, которая обезображивала это прекрасное личико пять лет назад, когда хрупкую фигурку в пышной юбке несли на носилках.
«Да. Это было эффектно, кто поспорит? Моя карьера сломалась под лучами софитов и прицелами объективов камер репортеров. На глазах моих многочисленных поклонников и обожателей. И бедную принцессу Аврору, окровавленную не бутафорской кровью понесли в бутафорских носилках в не бутафорскую карету скорой помощи».
Теперь ее бормотание больше ничем не напоминало речь актрисы, выступающей на сцене. Скорее оно было похоже на навязчивое бормотание сумасшедшего – с резкими сменами настроений, беспочвенными обвинениями и оправданиями.
«Мама, мамочка, во мне тоже были иголки. Не так много, как в тебе, но, когда я очнулась после операции, они втыкались в мою руку и сосали мою кровь. А в моих ногах и спине были штыри.
Но мне не было так больно как тебе, моя дорогая мамочка. Мне не было больно. Я плавала в наркотическом тумане, изредка выныривая из него, чтобы встретиться глазами с очередным сочувствующим.
А потом я смотрела как из меня постепенно убирают все иголки и штыри. И каждая эта иголка забирала мою кровь и жизнь. Я как заново родилась – передо мной был чистый лист.
Я заново училась ходить, двигаться, общаться. Все те люди, которые были со мной в той прошлой жизни, они куда-то исчезли. Появились новые. И только один остался. Тот, за которого я скоро выхожу замуж. Он любил принцессу Аврору, а досталась ему жаба. Но он доволен и этим. Все хорошо, мамочка, у меня все хорошо.
Если тебе это, конечно, интересно. Я же тебе говорю, что все хорошо: меня бог спас от старости и этой пытки постепенного угасания. Да, я больше не работаю в театре. Невелика потеря, ведь я же говорила, что я ненавидела театр всегда.
Как хорошо, что можно больше не ходить туда – в эти душные коридоры, в эти захламленные гримерки, не нюхать пыль занавесов и не дрожать от сквозняков за кулисами. Как хорошо, что можно не встречаться с этими людьми! Вся грязь всего мира всегда пенится в закулисье театров.
Теперь я хожу в театр только в красивый зрительный зал, выхожу в антракте в уютную театральную гостиную, мы пьем кофе и вино, возвращаемся в свою ложу после второго звонка, потом спускаемся в нарядное фойе и пешком идем домой, обсуждая постановку и помахивая программкой.
Я вожу своих девочек в театр, но я никогда не захожу в закулисье! Даже когда привожу их на участие в концерте. Нет! С меня довольно! От одного вида полураздетой балерины, мчащейся по коридору, чтобы успеть переодеться между сцен, у меня, наверное, случится приступ судорог.
Теперь моя жизнь полна небольших радостей, никаких высоких чувств и страстей! Я вполне довольна своими проблемами с ремонтом нашей новой квартиры, вопросами, которые надо решить в связи с предстоящим отпуском, планами, связанными с моей хореографической школой и … Самое главное! Я безумно довольна тем, что могу хоть пять раз в день пить капучино на самых жирных сливках с самым огромным пирожным в кондитерской!»
В классе раздался щелчок и ровный свет поточных люстр залил комнату. Анна Павловна стоит посреди класса с пальто в руках. Она устало смотрит на себя, надевая яркое пальто и искусно завязывая атласный шарф. Потом деловито осматривает зал, будто урок закончился лишь несколько минут назад.
Идет через весь класс к электронному пианино и закрывает крышку. Кладет на крышку статуэтку балерины, с которой не разлучается в классе, выдавая ее за свою помощницу. Процокав каблуками к выходу, распутывая длинный ремешок сумочки она последний раз взглянула в зеркало. Ее взгляд потеплел, и губы раздвинулись в легкой улыбке.
«Так что все к лучшему. Видит бог, все к лучшему! Спасибо тебе, Господи, за все!»
Снова щелчок и темнота накрывает комнату. Пространство выжидает звука уходящих каблуков и поворачивающегося ключа. Но ожидание затягивается. Какое-то время ничего не происходит. В воздухе висит недосказанность и тревожное чувство незавершенности.
Щелк. Свет. Фигура женщины в пальто смотрит в ожидающую пустоту.
«Еще кое-что не сказала вам. Ту ограду подпортила я. Я знала, что она рухнет только на меня и только в тот самый момент, когда я буду на ней сидеть. Никто там больше не сидит. И надо то было всего лишь ослабить пару болтов…»
Щелк. Темнота.
И почти осязаемо слышны мысли женщины, укрывшейся в ней: воспоминание о последних звуках ДО: звук оркестра, потом звук рухнувшей декорации и крики в переполненном зале – суматоха, оркестр обрывается.

Автор: Екатерина Гоголевская