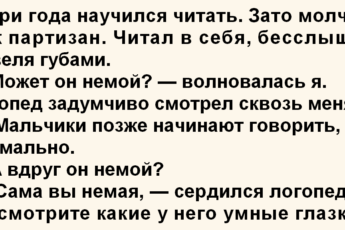Худенькая, маленькая росточком, с вечно распущенными блестящими длинными кудрявыми волосами Мотька была красавицей.
Ее муж, запойный пьяница, придя домой и управив скотину, садился за стол и хлопал по нему рукой: «Мотька, подь сюды!»
Хлопок означал начало ежевечернего представления, которое обычно заканчивалось тем, что глава семейства, намотав на жилистую руку женины волосы, таскал ее по улице.
Мог бы побить потихоньку за закрытыми дверями, как делали, чего греха таить, многие его соседи.
Но-нет!
Душа требовала зрителя, возмущенных тонких вскриков и наскакиваний соседок, желавших вступиться за Мотьку.
Протащив стонущую от боли жену вверх по улице, он бросал ее у дверей сельского магазина, вывалянную в пыли, в разорванной одежде, с неуспевшей еще запечься кровью на висках и разбитых губах, и спокойно заходил за бутылкой вина.
Продавец — невысокая, но крепкая Анька, выпроваживала пьяницу быстро: схватит аршин для измерения тканей, деревянный, с железными острыми наконечниками с обеих сторон, и ну тыкать им бесстрашно прямо в лицо извергу.
Получив достойный отпор, Мишка отходил от магазина, грязно ругался и ускорял шаг, чтобы догнать еле бредущую в сторону дома по щиколотку в дорожной пыли жену. Убежать у той не было сил, он настигал хрупкую жертву, ронял ее на дорогу и за волосы волок к дому.
Жившие напротив Николай и Пелагея всегда защищали Мотьку. Не шли им впрок мудрые слова большинства соседей, что муж и жена-одна сатана, сами разберутся, а вот так вмешаешься, да еще и виноватым будешь, они помирятся, а с тобой здороваться перестанут.
Полностью игнорируя подобную житейскую позицию, Пелагея, наскоро вооружившись коромыслом или лопатой, отбивала Мотьку и, прикрывая ее своим исхудавшим от тяжелого недуга телом, уводила к себе в хату, где на лавках, а то и на полу привычно спали мотькины дети.
Пелагея промывала мотькины раны, смазывала их маслом, настоянном на лепестках белых лилий, и укладывала страдалицу рядом с детишками.
Мишка бушевал, обещал непременно спалить полькину хату в ближайшие дни, а потом шел домой. Засыпал он чаще всего прямо на пороге, голова хозяина покоилась на глиняном полу хаты, а остальная часть тела оставалась на улице.
Если дома был Николай, то битва прекращалась быстро. Для этого крепкому мужчине было достаточно, выйдя из двора, негромко произнести в адрес драчуна только одно слово: «Ну?», и Мишка сникал, отпускал Мотьку и, ссутулившись, шел к своей хате.
Он знал силу рук соседа. Несколько лет назад Николай в назидание повесил Мишку за шиворот на сухой сук тутового дерева, где дебошир и провисел, беспомощно дрыгая ногами, пока Николай не снял его.
Лучше уж не связываться, это даже пьяный поймет...
Почему другие односельчане не останавливали Мишку? Ни один из мужчин-соседей ни разу не встряхнул невысокого и не особо сильного по причине бесконечных пьянок драчуна.
В молодости был Мишка лучшим в селе кузнецом, но пристрастие к алкоголю высушило крепкую некогда фигуру, высосало упругую твердость из чугунных мышц. Черные борода и волосы стали наполовину седыми, хоть лет Мишке всего и ничего-то: тридцать с хвостиком.
Мотьку он приметил давно. Танцевала она красиво и была сильно похожа на цыганку не только внешне, но и повадками: гадала хорошо и умела приготовить разные настойки и мази, которые были необходимы в каждой семье тридцатых годов. Ближайшая аптека находилась в городе за семь километров. Не набегаешься!
А как роды умела принимать-не было Мотьке равных: что у бабы, что у коровы. Сполоснет руки самогонкой, приступит к роженице и ну ей ласковые да утешительные слова приговаривать!
И дитятко, скотинье ли, человечье, всегда живехонько!
Помимо всего прочего Мотька могла по только ей известным приметам определить будущее новорожденного. А уж если на ладошку дитяти посмотрит-все расскажет: что надо воды остерегаться или огня в таком-то возрасте да какому ремеслу обучиться следует.
Только никогда не говорила, сколько лет отмерено, хотя, наверное, и это ей было ясно видно в паутинке едва заметных линий ладони нового человечка.
Говорят, многим повитухам Господь дает дар предвиденья в награду за их труд, за хлопоты и помощь в рождении нового человека.
А может-в наказание. Кто знает...
Мотька же была не просто повитухой.
Она родилась ведьмой.
По-другому и быть не могло, потому что ведьмами были все женщины их рода. Правда, мотькина мать Верка, черноволосая и черноглазая, еще в ранней юности наотрез отказалась обучаться ведьминскому ремеслу.
«Мама, -сказала она, когда мать попыталась вовлечь ее в свои дела. -Люди в нашу сторону пальцем тычут, ведьмами обзывают. Я не хочу жить по-Вашему. Хоть убейте!»
Убивать Верку, конечно, никто не стал, но между матерью и дочерью образовалась стена отчуждения. Жили они под одной крышей, только и всего. Верка и замуж выскочила за первого, кто предложение ей сделал, лишь бы из дому убежать. Ей повезло: муж попался покладистый, немногословный и работящий, жили молодые мирно, и в скором времени на свет появилась дочь.
Назвали Матреной. Мотькой-по-уличному.
Осмотрев новорожденную малютку и изучив ее атласную ладошку, бабка довольно улыбнулась, а у молодой матери замерло сердце: она знала эту материнскую улыбку.
С той поры стала сорокалетняя бабка частой гостьей на дочернином дворе, помогала с огородом и скотиной и самозабвенно возилась с внучкой. Она купала малышку в травяных отварах, сыпала в воду лепестки роз и других цветов по сезону и туго пеленала «сповивачем» — широкой полосой ткани, выпрямляя ножки и ручки, чтобы были они ровненькими. После сповивача наступала очередь пеленки, и туго запеленутый ребенок бережно укладывался в люльку.
Маленькая Мотюшка тянулась к ней, рано начала говорить и часто шептала чернобровой бабке ласковые слова на ухо.
Мотька осиротела в пять лет, батя с мамкой утонули, когда зимой по замерзшему озерцу решили путь спрямить. Ушли под лед вместе с лошадью и санями с покупками. Вот и растила Мотьку полуослепшая от горя бабка, враз потерявшая здоровье после смерти единственной дочери.
Бабка и научила сметливую девочку знахарским премудростям. Была бы возможность-разумела бы девочка грамоте, но в школу пойти ей не пришлось по причине бедности. Так что из букв знала она только начальную букву своего имени — «М», которой при редкой необходимости и подписывалась, старательно сложив губы трубочкой.
Мишка посватался, робея, но седая немощная бабка с легкостью дала свое согласие: хворая она, мол, нету сил уже хозяйство вести, а без мужика-какой порядок во дворе. Вон, крыша прохудилась, журавель вот-вот поломается от старости, колодец давным-давно почистить не мешало бы да и сруб подправить надо.
Мишка быстро привел в порядок бабкино подворье, а свое у него и так образцово содержалось. Зажили молодые счастливо, каждый вечер слышали соседи их звонкий дуэт: управляются хозяева, дела хорошо идут и на душе легко и светло от их песен.
Через время приехал в семью на побывку старший мишкин брат Семен. Приметила мать, как смотрел он на Мотьку, а та спотыкалась под тяжелым взором, узрела усмешку в вороных сенькиных усах, да за бесконечными домашними делами как-то и значения особого не придала: не один он на красивую невестку засматривался. А Семен, пять лет не казавший глаз, вдруг зачастил в родной дом. То крышу починить поможет, то сено скосить, да и мало ли дел в страдную летнюю пору в селе!
Третий его приезд был короток.
«Я ненадолго,»-с порога предупредил, а наутро обнаружилась пропажа: сбежала Мотька со старшим мужниным братом.
А куда-только им и ведомо.
На память осталось деток трое, да скатерть, маками вышитая. Опустела хата. Дети притихли. Выкинул Мишка во двор женин сундук с кованными петлями, порубил его в щепы, а потом сжег.
На следующий день явился он из кузни пьянее пьяного и набросился на оказавшегося некстати на дороге соседа с кулаками.
И пошла мишкина жизнь под гору на неловких заплетающихся хмельных ногах.
Через год по осени ранним утречком по зеленому еще шпорышу прошуршала к дому и остановилась у ворот похудевшая Мотька с ребеночком на руках и узлом через плечо.
Нагулялась.
Набегалась.
Налюбилась до черноты в очах.
Постояла, вроде как раздумывая, потом толкнула калитку привычно, вошла во двор и будто растаяла в хате. Ни шума, ни слова не услышали любопытные соседки. Лишь по тому, что заказала наутро поминание мать по сыну, поняли-сгинул старшой. Что приключилось в далеком неизвестном городе Шахты, при каких обстоятельствах ушел из жизни разлучник-ничего не рассказывала родня.
Молчок.
Умер и все!
Лишь спустя годы, выпив в компании лишнюю рюмочку, уронила в разговоре Мотька, залившись слезами, что завалило ее милого в шахте вместе с десятком таких же мужиков. Глубокая могила у Сенечки ее. Бездонная.
Не жалел сил Семен, бесстрашно спускался в глубины земные, в тяжелую работу впрягался радостно: безбедно должна жить его семья, не зная нужды. Весело смотрел на любимую и сыночка народившегося.
Только недолго длилось их краденое счастье. Чуток побольше года.
После возвращения жены Мишка запил пуще прежнего. Пьяный избивал Мотьку. Если успевала свекровь-вмешивалась, невестку спасала, а та и не заслонилась ни разу: виноватая, чего уж тут...
Бей!
Братова сына Мишка по имени и не называл. Семенычем кликал. Так это имя-прозвище и приклеилось к пацану.
А свекровь не корила невестку. Мальчика прижаливала. Он – единственное, что осталось на белом свете от старшего ее сына. Пусть не венчанная с Семеном, Мотька принесла в дом кровинушку его.
Дважды невестка, получается.
И чего только на свете ни бывает, Господи, твоя воля!..
Как-то сразу после возвращения блудной жены зашел разговор среди приехавших в кузню мужиков. Поговорили о том, о сем, об урожае, о рыбалке, о конях, да и перешли на баб. Тут один из усатых баламутов отпустил в сторону Мотьки ядреное слово. После чего взвыл от боли на земле с перебитой челюстью: быстрая реакция оказалась у Мишки.
А Мотьку у колодца баба с соседнего переулка зацепила, как, мол, Мотька, кто из братьев, как мужик, лучше?
Посмотрела на нее Мотька пристально, повернулась спиной и понесла коромысло с ведрами, не уронив ни капли, с гордо поднятой головой. Ветер, неуемный парикмахер, ласково перебирал своими упругими прозрачными пальцами черные блестящие пряди ее роскошных, распущенных, как всегда, волос.
Обозлилась баба: «Бесстыжая ты, Мотька! Замужняя ведь, волосы прибери, а то ходишь, как лахудра!»
Не обернулась Мотька, даже плечом не повела.
Расценив молчание, как слабость, неугомонная выкрикивала: «Бесстыжая, бесстыжая!..»
Мотька невозмутимо продолжала свой путь, неся на плече коромысло с двумя ведрами, наполненными неподвижной, словно замерзшей водой.
«Ишь, гордая какая! Идет, будто и не о ней речь! Ни стыда, ни совести!»-не унималась языкатая судья.
И, как тяжелый ком земли, кинула в спину: «Ведьма!..»
Мотька остановилась, будто споткнувшись, медленно обернулась в сторону обидчицы, покачала головой безмолвно и пошла своей дорогой.
Осторожные соседки пытались остановить поток оскорбительных слов: «Смотри, как бы хуже не стало. Отступись. Прощения попроси. Не связывайся...»
Но это лишь раззадорило смелую воительницу. Еще долго слышался у колодца ее голос и смех.
Радости от победы над бессловесной жертвой поубавилось: на следующее утро вскочил на дебелом бедре осудившей Мотьку бабы чирей, да такой, что ни встать, ни сесть без стона она не могла. Промаявшись пару дней и столько же бессонных ночей, она последовала-таки совету соседок и отправилась ко двору Мотьки-ведьмы.
Прилюдно попросила прощения у простоволосой, как обычно, Мотьки.
Кивнула та головой. Простила.
Пошептала над сухим сучком, поплевала в сторону и велела идти домой. Чирей исчез быстро, как и появился, оставив на всю жизнь после себя небольшое пятнышко и память о том, что язык надо за зубами держать.
Там ему самое место, природой обозначенное.
После этих происшествий перестали мужики Мишку задевать, а бабы-Мотьку, и в дела их семейные старались не лезть особо.
Не даром ведь в народе говорят:"В каждой избушке-свои погремушки".
Чужие дела-потемки, тут в своей семье не разберешься иной раз...
Как и у каждой ведьмы, черный глазок мотькин многим людям неприятности приносил.
Возвращается стадо домой.
Именно в этот момент забажается Мотьке из двора выйти.
Кричат соседки: «Матрена, уйди, дай стаду пройти!»
И Мотька почти бегом скрывается во дворе, стараясь не смотреть в сторону коров.
Иначе стоит только взглянуть ей на проходящее мимо стадо, и начинают коровы, попавшие под обстрел ее очей, мычать дурным голосом, хозяек к себе не подпускают, молока не дают.
«Мотька, корова воет! Помоги!»-бежит то одна, то другая.
А Мотька — ничего, без возражений следом идет, пошепчет, вокруг коровки обежит, водой плеснет в морду, и покорно затихнет только что бесновавшееся животное, поведет влажными боками, утихомиривая беспокойное дыхание, и потянется к хозяйской руке: «Чего без дела стоишь, Нюрка, дои уже!»
Соседка Пелагея, нянькающаяся с внучком, дурносмехом и толстячком, беленьким, словно сметаной облитым, тоже, завидев Мотьку, убегала в хату.
Дитя, попавшееся Мотьке на глаза, не уснет в эту ночь, будет дугой выгинаться, кричать до одури. Бегут бабы на Мотькин двор: «Иди, дите плачет!»
А та не отказывается. Сполоснет руки, и — в хату.
Читает над водой молитву, зевая до боли, спички жжет и в воду бросает.
Не скрывала, рассказывала, что делать надо: брать по три спички в руки, зажигать их, читая трижды «Отче наш», и бросать горящие спички в стакан с водой. Потом той водой скотину сбрызнуть, а человека умыть.
Засыпает измученный малыш тут же, затихает корова...
Вот и все. Немудреная наука. Всякому подвластна.
Только не получалось у соседок ничего.
И спички жгли, и в воде гасили, и молитвы читали.
Плачут дети!
«Иди, Мотька, поможи! Твоя вина...»
И черноволосая ведунья неслась легким своим шагом к нужной хате, читала бесформенными, состоящими из одних шрамов, разбитыми многократно губами «Отче наш».
И успокаивалось дитя.
Утихомиривалась корова.
Вновь повторяла немудреные правила помощи бестолковым соседкам.
Только напрасны были ее слова. Не каждому дано умение.
Не каждому.
В один из дней пришла к Мотьке соседка Пелагея.
Посидела, будто не решаясь сказать. Потом сообщила, что второй день возвращается ее корова с пастбища, как будто подменили: боднуть норовит, в стойло не идет, а когда попыталась хозяйка ее подоить, то выяснилось, что вымя у кормилицы пустое!
Чего делать-то? К тому же есть коровка отказывается. Этак и до беды недалеко.
Спокойно выслушала Мотька сбивчивый рассказ расстроенной соседки и объяснила, что нужно сделать да как поступить.
Любым способом надо у коровки хоть немного молока сдоить, на огонь сковороду поставить, бросить на нее, раскаленную, иголки и туда же вылить молоко.
После этого стой и помешивай горячее и чадящее молоко вместе с иголками. Будут иголки недоброго человека, отобравшего молоко, колоть, а раскаленное молоко-жечь. Не сможет колдун дома усидеть. Придет во двор к хозяевам заколдованной им коровы и попросит какой-нибудь предмет.
Так вот того, что он попросит, ему ни за что давать не надо.
Вот и все.
«Сглазили коровку твою, соседка! Отобрали молоко...»
«Как так: отобрали? Пастух надежный, глаз со стада не спускает.»
«Для этого совсем не обязательно корову руками доить, -усмехнулась Мотька. -Достаточно нож в стену воткнуть и нужные слова произнесть, молоко само польется, только ведро подставляй! Ну, и сила требуется особая, конечно...»
Выслушала Пелагея наставление и — бегом исполнять его в точности.
С трудом выдоила из пустого вымени немного молока, плеснула на раскаленную сковороду и давай помешивать его вместе с иглами.
Муж, ругаясь, выбежал из хаты от чада.
Скоренько скрипнула калитка и постучала в дверь ветхая бабушка, что жила на дальнем краю большого села: «Дай, Полька, соли мне. Закончилась прямо сейчас.»
Как будто не было соседей у старухи поближе...
Не дала Пелагея соли, из двора выпроводила незваную гостью.
А корова-то выздоровела!
Жизнь текла, как вода в неуемной Кубани: шипя, вертясь в омутах, петляя...
Умерла мотькина бабушка, потом-свекровь. Сгинул на войне Мишка, обнявший на прощание только детей, не взглянувший на жену, не сказавший ни единого слова. Не простил давней измены. Так и ушел с камнем на сердце, не оглянувшись ни разу.
Выросли дети, построились неподалеку, зажили семейно. Внучки посыпались, как горошины из стручка, сплошь мальчишки. Всех Мотька приняла, каждого в лобик поцеловала, к груди прижала, а когда понесла младшая невестка, то поймала на себе пристальный взгляд свекрови, от которого вздрогнула. Ох, непростой взгляд!
«Вы чего, мамо?»-спросила наедине.
«Умирать мне скоро, так внучечку на руках напоследок подержать хотелось. По всему-дочь у тебя под сердцем. Дождаться хочу. Уеду я на недельку, долг у меня остался. Всю жизнь на шее висит, успеть надо...»
Спустя несколько дней, Мотька, не покидавшая пределы села многие десятилетия, собрав немудреный скарб, отправилась на станцию.
Ее не было ровно неделю. Вернулась счастливая и враз постаревшая почему-то.
Роды у младшей невестки приняла легко, долгожданную внучечку в пеленку завернула, только ручку выпростала, долго ладошку рассматривала, потом рассмеялась радостно и серебряное свое потертое колечко невестке на палец надела: «Угодила, Прасковеюшка!»
Ей же завещала положить в гроб мешочек заветный, в котором чернел зеркально отсвечивающий на солнце уголек, привезенный ею с той самой шахты, в которой нашел вечный покой родненький ее Семушка, единственно любимый и недолюбленный.
Она ушла на вдохе, тихо, с улыбкой на изуродованных побоями некогда необыкновенно красивых ярких губах, шепнув на прощанье в розовое внучкино ушко: «Присматривай тут за ними вместо меня, Мотюшка...»

Автор : Наталья Малиновская