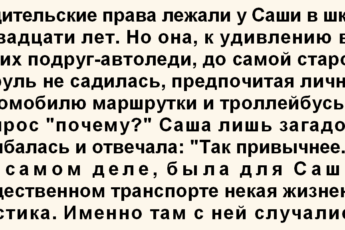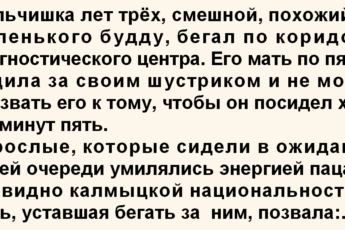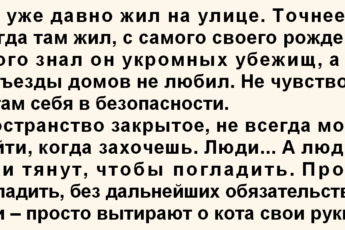У нее мать померла в шестьдесят три. Года за два до этого откуда-то капризы взялись. Требовала внимания. И участия.
Какое внимание и участие, если наработаешься, как каторжная? Придешь, измеришь давление, купишь лекарства и провизию. А что еще?
В шестьдесят три не может быть деменции – по определению. А у матери – началась. Конечно, газ не перекрывали и ключи не прятали – крайность это. Но раздражительность, доходящая до агрессии. И обиды, обиды, обиды. Слезы и жалобы.
Сидела в углу и дулась на весь белый свет.
Кто-то сказал, что нельзя с таким человеком сюсюкать. Пришел, спросил: как спала, что ела, что делала? Вот и все. Ни в коем случае не сочувствовать, на душу не давить. Говорить: чего это ты расползлась в разные стороны? Быстро собери себя в кучку. Не знаешь, как парализованные лежат? А ты, слава Богу, ходишь потихоньку.
Только без сантиментов! Сурово, сурово и еще раз – сурово.
Мать, видимо, чувствовала, что уйдет. И чего-то ждала. Это сейчас понятно – сочувствия ждала, может, чтобы ее приободрили.

И однажды не проснулась. Легко ушла. Рано, разумеется. Могла бы еще лет двадцать прожить.
А потом годочки полетели. Не остановить. И самой шестьдесят три. Проснулась утром и вспомнила, что ей уже шестьдесят три. Столько же матери было. И ощутила жажду жизни. И страх ухода.
И вдруг ясно поняла – мать свою. И стыдно стало. За себя.
Придет, дверь откроет, достанет тонометр, заставит руку оголить. Измерит и скажет: «Чего разнюнилась? У тебя давление, как у космонавта. Держать себя в руках не можешь? Соберись, говорю тебе – соберись».
А мать на кровати глазами моргает.
Покрутится-повертится, приберет, сварит что-нибудь. Обернется в дверях и скажет, что придет завтра.
Что-то упущено было. Душевность, наверное. С другой стороны, если бы знала – тогда, что душевность нужна. Не вернешь.
И почему-то с каждым днем душа все сильнее болела. Надо же, до шестидесяти трех лет все хорошо. А тут – как лампочку выключили. На душе потемки и боль. И стыд. За себя.
Неужели так бывает?
Сходила на кладбище, постояла, на фото поглядела. Прощения попросила. И откуда-то слова душевные взяла. Но понимала, что все слова – в воздухе висят. Что впустую их произносила.
Одна подруга сказала, чтобы не терзалась: «Что было, то прошло. И некому тебя винить. И за что? Ты работала, уставала. Уверена, что мать тебя хорошо понимала».
Другая подруга иное посоветовала: «Вымаливать прощения в церкви – за черствость и безучастность. Пострадать надо».
Пострадать? Решила месяц в дальнюю церковь пешком ходить. Туда три километра, обратно три километра. Вернулась домой, упала на диван. Поняла, что не справится.
Дочь пришла. Рассказала ей все – про себя. Выслушала, резко ответила: «Мастерица ты фантазировать. Сама подумай: бабушка болела и померла. Кто спорит, что рано? Ты же ее в черном теле не держала. Делала, что могла».
Растерялась. Не знала, что делать? Кого слушать? Наверное, только одно осталось: жить себе и жить, сколько Бог даст. И если есть что-то там – придется ответ дать. А если нет ничего, то ты, как говорится, не узнаешь.
Успокаивала себя, успокаивала, а растерянность все равно осталась.