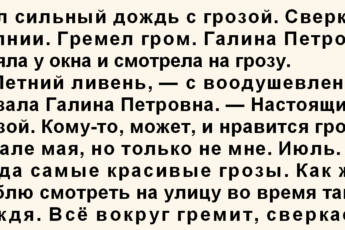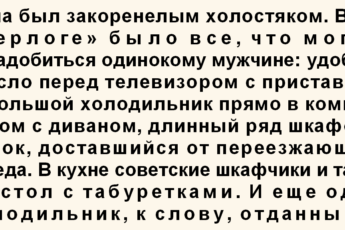Сыро, душно в избе Ермолиных. За столом у маленького окна, в свете смрадно коптящей лампы, шорничают старик Ермолин вместе со старшим сыном Терёхой. Жена Терёхи, крутобокая Анфиска гремит ухватами, переставляя чугунки. Старуха уже несколько дней как отправилась с товарками по куски.
Рябой низкорослый Петруха мечется «по хозяйству» со двора в избу, украдкой поглядывая в угол, где на нарах, за грязной ситцевой занавеской, лежит его Матрёнка, родившая накануне девочку-первенца. Дочка слаба и не хочет брать затвердевшую грудь. Матрёна обтирает маленькое сморщенное личико, с тревогой вглядывается в мутные глазки и упорно мажет поджатые губки прозрачным молозивом.
— Хватит избу студить, — ворчит Анфиска, злая от того, что всю бабью работу теперь править ей одной.
— А и правда, займись делом, овин-то как растряс, — поддержал жену Терёха, — налетит, всю солому раскидает.
Но Петруха будто не слышит, отодвинув занавеску, наблюдает за женой и дочкой.
— В Грачи везти надо, — подняла на мужа заплаканные глаза Матрёна, — помрёт дитятко.
— Ишь удумала, в Грачи, в такую позёмку. Лукьяниха вчера сказывала, что не жиличка дочка ваша, чего уж лошадь-то гонять, — Анфиска с сердцем стукнула ведром, — добро бы паренёк, а то девка, лишний рот.
— В Грачи везти надо, — упрямо шепчет Матрёна.
Она поднялась, пошатываясь, чёрные круги застилали глаза.
— Поднялась и хорошо, будет бока отлёживать. Я своих рожала и сразу в поле, а ты второй день прохлаждаешься.
— Иди, запрягай, — тихо, но твёрдо повторила молодая мать, глядя на растерявшегося мужа.
— Терёха, а Терёха, будто и не слышишь. Надумала наша тихоня в гости к родителям ехать, нашла время.
— Не дури, Мотька, — подал голос старик Ермолин, — сказано же, позёмка. Не хватало лошадь угробить.
— Иди, запрягай, — Матрёна подхватила ухват и замахнулась на мужа.
Терёха подскочил, попытался выхватить рогач у обезумевшей молодой матери, но та замахнулась и на него.
— Подойдёшь, убью! – будто срезала.
Шмыгнув носом, Петруха выскочил во двор, в стылую снежность, и направился к сараю. Матрёна быстро оделась, закутала девочку в одеяльце, старый тулуп и вывалилась за порог, жадно хватая воздух открытым ртом.
— Поторапливайся, увалень, — перекрикивала она вой метели, подгоняя копошащегося Петруху.
В белом крошеве разгулявшейся вьюги не разглядеть накатанной дороги. Низкие крестьянские дроги с трудом везёт старая худая лошадёнка, огромные сугробы могильными холмами возвышаются вокруг.
«Богородица, спаси мою девочку, — шепчет женщина, склонившись над прижатым к телу младенцем, — обещаю, не буду сетовать на долю свою, приму Петра в своё сердце, только спаси».
Пётр гонит и гонит лошадку, быстрее, быстрее, дальше от дома, от страха, который испытал, глядя в изменившиеся враз глаза Матрёны.
«Ишь, сбесилась баба». Но картинка замахнувшейся ухватом жены почему-то перестаёт пугать, какая-то неведомая сила зарождается в душе Петра. Он оглядывается на жену и вспоминает, как тихо шептались ночами, поглаживая округлившийся живот, как ждали разрешения.
«Богородица, помоги. Петруша, миленький, быстрее», — маленькое тельце, прижатое к груди, забилось в судорогах.
«Подумаешь, девка, будут и парни. Эту бы спасти».
— Но, но, родимая.
Грачи вынырнули чёрными шапками крыш.
— Куда? – крикнул Пётр жене, перекрикивая буран.
— К Захаровне, быстро, отходит уже.
Матрёна не стала дожидаться, пока муж привяжет лошадь, влетела во двор, чуть не сорвав калитку. Нащупав скобу, обмотанную тряпицей, дернула дверь и с порога заголосила.
— Ну, ну, молодка, чего ревёшь, дай-ка посмотрю, — знахарка умело размотала свёрток, положила на лавку бесчувственное тельце.
— Не знаю, получится ли, припозднилась ты.
— Вчера только разрешилась, грудь не берёт. Повитуха сказала, что не жиличка, — Матрёна давилась громким плачем.
— Какая грудь, не реви, не реви, недосуг на слёзы время тратить. Скажи своему мужику, чтобы принёс дров с поленницы и шёл вон, не мужицкое дело. Пусть за воротами ждёт.
Старуха заправила за платок выбившие седые космы, подвязала чистый передник, ополоснула руки и принялась замешивать ржаное тесто.
— Бабка, не дышит, — Матрёна теребила синее рахитное тело девочки.
— Дышит, дышит, отстань от ребёнка, брось дров в печку, да не надо много, угли горячие ещё. Да посуше выбирай, надо, чтобы быстрее прогорело.
Старуха между тем обмазывала малышку тестом, оставляя свободным лишь нос и рот.
— Как в печь суну, ты меня спрашивай: «Что печёшь?». Поняла?
Матрёна кивала, с ужасом наблюдая за действиями Захаровны.
Когда угли дотлевали, старуха уложила девочку на хлебную лопату, привязала тряпицей и сунула в печь.
— Что печёшь? – еле выдавила из себя молодая мать.
— Сушец пеку, — ответила старуха, вынимая младенца.
Не успела Матрёна выхватить дочку, как старуха опять сунула лопату на тлеющие угли.
— Что печёшь? – пробормотала несчастная молодка, заметив подмигивания знахарки.
После третьего раза девочка, наконец, захрипела и разразилась громким плачем.
— Будет жить твоя девчонка. Перепекли, теперь только крепче станет.
Пётр, не отрываясь, смотрел, как маленькая дочка жадно втягивает сосок жены.
— А давай у твоих жить останемся на первой. Они звали, — шептал он в розовое ушко улыбающейся Матрёны.

Автор: Елена Гвозденко