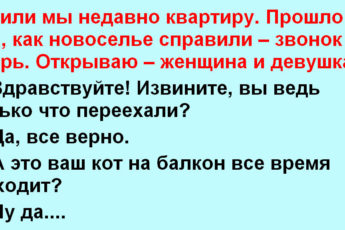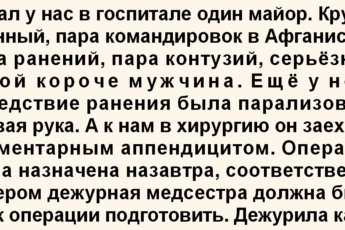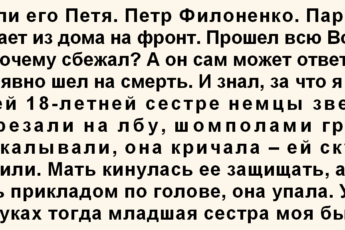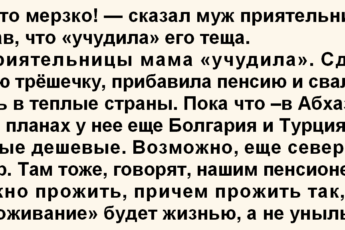Почему дедушка и бабушка были для меня ещё и папой и мамой, я долго не спрашивал. Жили мы, сколько себя помню, в тёплом доме на высоком фундаменте, а в «зале» – большой парадной комнате, куда редко когда кто-нибудь заходил, – на комоде стояло «поясное фото», на котором молодые совсем мужчина и женщина сидели, прислонившись друг к другу головами. Это и были мои папа с мамой, которые погибли при взрыве, когда мне не было ещё и года.
Оба они работали геологами и часто должны были спускаться в шахту для взятия каких-то там проб. Когда мама пошла меня рожать, папа стал спускаться один, но без неё справлялся плохо. Вот потому она и вышла на работу через девятнадцать дней после моего рождения, возложив все заботы о младенце (обо мне, то есть) на плечи своих родителей – тех самых моих дедушки с бабушкой, с которых я рассказ свой и начал.
И почти через год после этого в шахте взрыв и грянул. Уже когда я подрос, дедушка рассказывал, как приезжала на шахту комиссия из самой Москвы, признавшая всё произошедшее несчастным случаем.
Поэтому мы и жили втроём в доме на высоком фундаменте, который когда-то, давным-давно, построили вместе дедушка и его отец, когда пришла пора женить сына. Там они и прожили, мои дедушка с бабушкой, всю жизнь. Там мама моя увидела свет, а потом ещё две её сестры, не успевшие дожить до года и умершие от каких-то традиционных деревенских болезней.
Я же родился уже в другом месте: в поселковой квартире, которую моим маме с папой дали как молодым специалистам. А после их трагической кончины вернулся я в родовые пенаты. Круг, что называется, замкнулся…
Когда я был маленьким, мне казалось, что дедушку я любил больше, а бабушку… мы оба с ним… чуть-чуть боялись.
Была она у нас невысокая, крепкая такая, с сильными руками, на которых всегда по локоть были засучены рукава, ибо всё время она что-то делала, что-то убирала, шила, стряпала, чистила или нас с дедом кормила. Дедушку она всегда называла в глаза и за глаза «дед». Он же её навеличивал по имени-отчеству: «Марь Семёновна».
– Дед! – кричала она из глубины дома. – Иди, баню затапливай. Да гляди мне: нежарко, пока мальчишку не помоешь. Себе и мне уже потом погорячей сделаешь.
– Дык я, Марь Семёновна, уже затопил, думал, ты забыла, что нонеча суббота…
– Не… как же забуду-то, еслиф каждый день листочки в календарю с утра сама отрываю.
Когда баня была готова, баушка командовала опять:
– Дед! Иди, мой мальчишку-то!
– Дык это, я, Марь Семёновна, дров ещё подкалываю. Можа, ты сама его ныне обхетаешь?
– Ишо чево удумал-то! На голого мужика я не глядела. Стыдно же это!..
Мужику тому, мне, то есть, было лет, наверное, шесть.
Когда после нашей помывки дедушка приносил меня на закорках в дом и в баню шла баушка, мы с ним садились за стол «чаёвничать». Дед безропотно пил чай, который ему «от спины и коленок» баушка заваривала на каких-то там горчайших травах. У меня же в кружке было тёплое молоко.
Я канючил, кривился, потому что по верху молока плавали пенки. Помните, как все мы их в детстве ненавидим?.. Ну а дедушка меня уговаривал:
– Пей, пей, унучок! Раз баушка сказала, надо пить…
Когда он видел, что аргумент этот меня убеждал не сильно, то продолжал доверительно:
– А у меня, думаешь, скусно? От на, попробовай…
И пододвигал мне свою кружку. Я едва касался дедова зелья губами. Ароматная горечь чувствовалась даже глазами и щеками. Дед внимательно следил, чтобы я не обжёгся, потом продолжал:
– О-о-о-т, видишь, как оно в жизни-то случаца! Иногда и не знашь, что хуже ещё, чем тебе сейчас, быват!
Потом сжаливался надо мною, совал свои корявые большой и указательный пальцы в мою кружку, вылавливал ими пенку и совал её себе в рот. После чего воровато оглядывался на двери: не увидела ли этого страшного нарушения дисциплины и порядка баушка.
Я благодарил дедушку одними глазами, скорбно вздыхал и мужественно припадал губами к краю кружки.
Когда из бани возвращалась баушка, я уже лежал в кровати, куда дедуня меня уносил, а сам оставался дожидаться Марь Семёновну. За столом они негромко о чём-то говорили, а я, притаившись, ждал. Когда бабушка шумно вздыхала, вставая из-за стола, и говорила, что пора спать, «а то завтри вставать рано» (будто были дни, когда она вставала поздно), я подавал голос:
– Дедунюшка! А звёзды смотреть будем?
Отвечала сначала бабушка:
– От, дед, смолоду ты бестолковый был! И мальчишку тому же учишь. Чёрте чё удумали! Звёзды!..
Дедушка подходил молча к моей кровати за занавеской, неся в руках тулуп свой пахучий, почти истлевший.
Никогда больше, во всей своей дальнейшей жизни, я не был так счастлив, как в этот момент.
Дед накидывал тулуп себе на плечи, брал меня на руки и прижимал к груди (ах, как же тепло было от его чистого костлявого тела тогда!). Затем полы тулупа запахивал у меня на спине и придерживал их руками. Я же, как лягушонок, всем телом своим прижимался к нему. Сейчас мне даже кажется, что в эти моменты я слышал, как неторопливо по дедовым жилам течёт кровь. Мы выходили во двор, и оба задирали головы.
А та-а-а-м, вверху, над нами блистала, сияла, изнемогала от своей красоты и загадочности алмазная россыпь звёзд. Мы восторженно молчали какое-то время, а потом дедуня рассказывал мне. Всегда одно и то же: как Юрий Гагарин полетел первым туда, на встречу с этой красотой. И заканчивал всегда одною и тою же фразой:
– И я тоже хотел. И в Москву писал… Но они мне не ответили…
Когда бабушка умерла, я дедушку к себе забрал. Конечно. А как же он один-то там, в высоком доме будет!
Всякий раз, когда я возвращался с работы, на кухне у него на коленях сидел правнук, а мой дедушка показывал ему в окно ту звезду, на которой сейчас живёт его прабабушка и ждёт своего деда, потому что одной ей, без него, даже в раю плохо…

Автор: Олег Букач