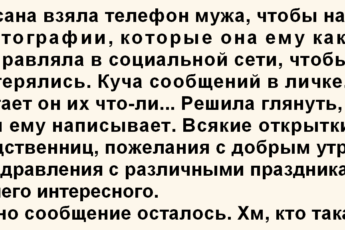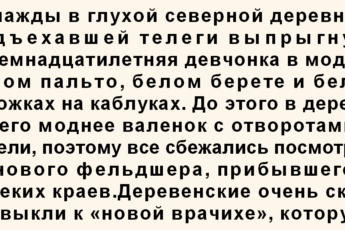Отца призвали на фронт ещё в начале войны. Ранним утром он ушёл на призывной пункт, откуда его уже не отпустили даже попрощаться. Помню, как мы бежали с мамой по улицам сонного, залитого солнечным светом Ленинграда, как вглядывались в чужие лица в новых гимнастёрках. Я увидел его первым и закричал, что было мочи: «Папка!» Он подхватил меня, а потом долго-долго целовал заплаканное лицо мамы и что-то горячо и быстро ей шептал.
Мама была учительницей младших классов. В первые месяцы блокады школа ещё работала и она часто брала меня с собой на уроки. Я сидел на последней парте и разглядывал картинки в книжках. Иногда урок прерывался воем сирены, и мама, схватив меня за руку, быстро строила класс по парам и вела в оборудованное тут же, при школе, бомбоубежище.
И в этом сыром и тёмном сводчатом подвале, на грубо сколоченных деревянных лавках, она рассаживала детей, обнимала меня и рассказывала какую-нибудь интересную историю о сильных, честных и геройских людях, поэтому мне было совсем не страшно.
В школе кормили обедами. Впоследствии я часто вспоминал ароматный перловый суп, румяную большую котлету, которую мама аккуратно делила на две части, и большую часть всегда пододвигала ко мне, и тягучий клюквенный кисель. Тогда голод ещё не пришёл, как и леденящий, пронизывающий до костей, проникающий в самую душу, холод.
В это хмурое морозное утро мне совсем не хотелось вставать. Было настоящим испытанием высунуть сначала одну, потом другую руку из-под груды старых, пахнущих плесенью, одеял, пробить пальцем тонкую корочку льда на поверхности воды, смочить в ней лоскут выцветшей ткани и тереть им лицо. К тому времени я был уже очень слаб, но мама говорила, что нельзя перестать двигаться: к тем, кто уже не встаёт, приходит смерть. А о смерти к семи годам я знал уже многое.
Она была повсюду: за зловещими чёрными квадратами окон, в тишине опустевшего парадного с ледяной коркой намёрзших нечистот на ступенях, в заметённых снегом холмиках на улицах. Я старался запоминать места, где из-под снега ещё виднелись страшные, почерневшие лица, руки или ноги, чтобы когда метель окончательно занесёт этот холмик, не наступать на него.
Госпиталь, в который мама устроилась работать санитаркой, разбомбили четыре дня назад. Я видел его страшный остов с зияющими дырами и уродливо торчащими в них панцирными кроватями, когда мы с мамой тащили мимо него санки с привязанными бидончиками с водой. Из госпиталя мама всегда приносила картошину и несколько луковиц, иногда муку, из которой варила похлёбку, кусочки колотого сахара.
Аккуратно резала чёрный влажный ком хлеба, подбирая пальцем крошки. Иногда я замечал, как она прикасалась языком к кусочку хлеба и словно замирала на секунду. А потом, как будто стыдясь своей слабости, протягивала мне. Порой она распускала в горячей воде пачку столярного клея, которую удалось раздобыть в госпитале, и к утру он застывал и напоминал холодец. Запах у этого холодца был отвратительный, но мама говорила что он полезен, потому что клей делали из рогов и копыт животных. Изредка нам удавалось выменять на толкучке немного крупы, соли и олифы, а подчас даже кусок промёрзшей конины.
В магазине, где мы отоваривали хлебные карточки, было всегда темно, горела коптилка или керосиновая лампа. На весах с гирьками продавщица подолгу, внимательно взвешивала кусочек, выверяя каждый грамм хлеба. И все терпеливо ждали, потому что даже грамм хлеба был ценен для каждого. Однажды я видел, как какой-то мальчишка схватил хлеб с весов и затолкал себе его в рот. Его били, а он жевал этот хлеб вперемешку с кровью.
Мама лежала с закрытыми глазами и не шевелилась. «Мам?» — на минуту мне показалось что её измождённое лицо с заострившимися чертами сегодня как-то особенно мертвенно-бледное и неподвижное. «Мамочка, мама! Проснись!» — закричал я в пугающей, неживой тишине нашей маленькой, тёмной комнатушки. Она открыла глаза и несколько секунд непонимающе смотрела на меня чужим, блуждающим взглядом. «Ты испугался, сынок? А знаешь, мне кажется, я уже была там. И твой голос вернул меня оттуда».
Немного позже мама засобиралась куда-то. При свете керосиновой коптилки, под злобный вой метели, я сидел у кафельной печки, ещё хранившей остатки тепла, листал свои потрёпанные детские книжки и рисовал на их полях огрызком карандаша. Я ждал её целую вечность. В какой-то момент я подумал, что мама уже не вернётся и горько заплакал. На стене одиноко дрожала и покачивалась моя бесформенная тень. Было страшно.
Только спустя много лет я узнал, как в то декабрьское утро моя ослабевшая, обессиленная мама, шла, едва переставляя непослушные ноги через сугробы, которых с каждым часом наметало всё больше, к институту переливания крови. Как расплакалась, потому что кровь не хотела течь в баночку. Но пожилой доктор пожалел её, позволил отогреться и напоил горячим сладким чаем.
И ей удалось сдать 150 миллилитров крови, блокадную донорскую норму для женщин, за которую выдавали талон на донорский паёк. Как она прятала драгоценную крупу, хлеб, масло и сахар под пальто, потому что в то время свёрток запросто могли вырвать из рук на улице. И как несколько часов добиралась домой, не позволяя себе потерять сознание.
Мама рассказывала, что когда казалось, будто больше она не сможет сделать и шага, она думала обо мне. Представляла моё испуганное маленькое лицо в холодной темноте и одиночестве квартиры. Как, глотая слёзы, разговаривала сама с собой вслух, уговаривая себя сделать ещё пять, ещё десять шагов, как валилась без сил в сугроб, ползла, и снова находила в себе силы встать.
Наверное, благодаря этому пайку мы и выжили.
А под Новый год, когда мы с мамой вырезали из старых газет украшения на ёлку (так мы называли несколько связанных нитками разлапистых веток, которые ей удалось раздобыть), на лестничной клетке гулко застучали солдатские сапоги. Оказалось, что всё это время мой отец воевал на Ленинградском фронте, но прорваться к нам получилось только сейчас. Мы обнимались и плакали, отец выкладывал на стол из вещмешка большие, ароматные кирпичики хлеба и консервы. И в эту ночь отступил, наконец, проклятый холод, липкий страх и ноющий, изматывающий голод. Мы верили, что выживем.

Автор: Елена Юй