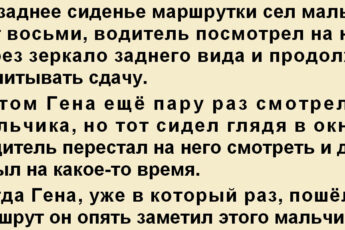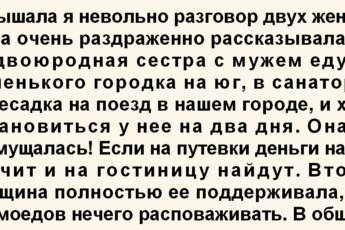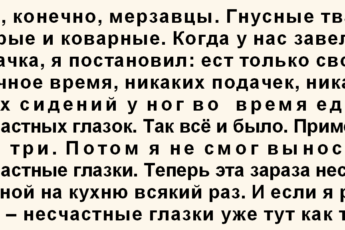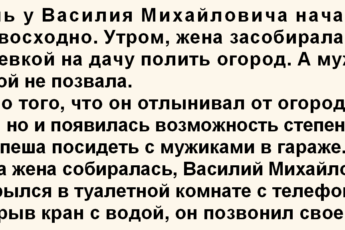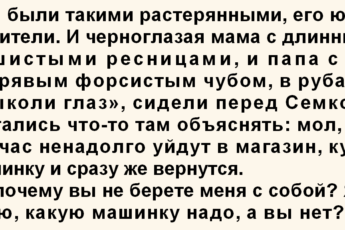Деревня в Псковской области. Семидесятые годы. Весна.

Мефодий сел на сваленные у коровника в углу двора брёвна, стащил с ног сапоги. Влажные, противно пахнущие потом, портянки, обмотал вокруг голенищ сапог. Так он делал всегда, чтобы они хоть чуть проветрились и подсохли, пока он обедает. Мужчина встал босыми ногами на траву. Разгорячённые в сапогах ступни, почувствовали приятную прохладу. Усталость сейчас стекала в землю, по, словно налитыми свинцом, ногам.
Стёпка, старший, четырнадцатилетний сын, стоял, поигрывая в руках топором, облокотившись по-взрослому на забор. Он только что нарубил щепы для растопки печи.
Отец вошёл в избу, сел за стол, на котором уже стояла миска с картофельной похлёбкой. Его десятилетняя дочь Манечка подогрела еду к приходу отца. Младший, восьмилетний Егор, в это время сидел в углу горницы и читал какую-то книгу. Из троих детей, только младший получился с ленцой. Он жил по поговорке, которую сам же для себя и придумал — «Лучше уж без удовольствия лениться, чем с удовольствием трудиться». Но учился он хорошо и очень много читал разных книг.
Мефодий уже 5 лет как проживал один с тремя детьми. Один, после того, как жена его, в одночасье собралась и уехала со своим ухажёром, учителем, работавшем тогда короткое время в их деревенской школе. Наверно, правильней бы было мужику от такой обиды запить горькую. Его бы соседи поняли и приютили бы детей, пока тот заливал свою беду водкой. Но Мефодий ушёл всей своей силой в работу. Он истязал себя тяжёлым крестьянским трудом, работая в колхозе на тракторе.
Бабы в деревне поговаривали, что иногда он, по мужскому делу, захаживал к одной женщине в другой деревне, но в дом женщин не приводил. Он даже курить бросил, чтобы не давать дурного примера своим пацанам. Спасибо матери Мефодия, она присматривала за ребятами, пока те были маленькими. Кур держали, да каждый год семья брала двух поросят, к зиме их забивали. Так что мясо своё было, из леса грибов и ягод заготавливали. Да огород какой-никакой имелся: картошку, овощей разных сажали там. С коровой же было не совладать, поэтому молоко брали за недорого на колхозной ферме.
Ещё тогда, когда сын привёз жену из армии, мать ему сразу сказала, что такая у нас на Псковщине не уживётся. Так оно и вышло.
В это время дня Мефодий обязательно приезжал домой, чтобы час побыть с детьми. Ведь в поле он уходил, когда они ещё спали, а вечером возвращался, когда они уже спали. Да и дети старались за этот час рассказать отцу все новости, поведать о том, что приключалось с ними за этот день. Отец ел свою похлёбку, слушая детей молча, лишь изредка похваливая их.
Тут в дом вошёл старший сын, Стёпка, и растерянно произнёс:
— Отец, там, это, мать приехала. Она стоит у забора с каким-то маленьким мальчиком.
Младшие дети выскочили на улицу.
Отец, словно не услышав слов сына, продолжал есть. Доев последнюю ложку супа, медленно встал и вышел во двор.
Словно не замечая незваных гостей, стал медленно наматывать портянки и надевать сапоги. Он, конечно, видел, как Манечка стоит обнявши мать, а около них сидит на чемодане мальчик лет четырёх. Сыновья — Егор да Степан — стояли поодаль, наблюдая за происходящим.
Мефодий, надев сапоги, пошёл к выходу со двора.
Когда он проходил мимо жены, та произнесла:
— Мефодий, я хотела...
Мужчина, махнув рукой, давая понять, что не хочет ничего слушать, ответил:
— Мне нужно в поле сейчас идти работать. А как вернусь, расскажешь про свои страдания, — и повернувшись к сыновьям, добавил. — Посмотрите на её мальчика, заморенный весь с дороги. Пустите их в дом да чемодан занести помогите. Я поехал допахивать клин у реки, вернусь назад зАполночь. И не бесчинствуйте тут. Мать она вам, хоть и непутёвая...
Пока Мефодия не было дома, чего только Тая не передумала. Ну, как объяснить мужу, что виновата она и вину ту до гроба нести будет. Объяснить такое сложно — это тебе не топором махать. А может, начать рассказ с воспоминаний о жизни? И стала Таисья сама себе мысленно рассказывать, словно это и не о ней вовсе, а о какой-то другой женщине:
«Тая хотела выйти замуж только за городского парня. Жизнь в их деревне под Калугой, казалась ей очень тяжёлой, нудной, у всех на виду, с вечными пересудами, сплетнями и завистливыми взглядами. Таю в деревенской жизни раздражало все: труд, одежда, досуг, разговоры, медлительность (деревенские жили не спеша, словно как решетом воду черпали). А больше всего её раздражали деревенские ребята. Они казались ей грубыми, зачуханными, малоразговорчивыми, не умными, не умеющими ухаживать за девушками, жадными, немодными.
Таисья была единственным ребёнком в семье учителей. Она отличалась от своих одноклассниц не только ухоженностью, умением красиво одеваться, но и манерой поведения. Всегда улыбчивая, приветливая, открытая. Если в чем-то сомневалась, то спрашивала напрямую, если удивлялась, то „глаза на лоб выкатывала“. Если благодарила, то от души и не стеснялась признаний, если боялась, то убегала с визгом и криком.
Если угощала, то самым лучшим куском. Никогда не держала обид и недосказанности. Мама её предупреждала, что люди все разные, в основном сложные, закрытые, завистливые, с камнем за пазухой. Девочка смеялась на мамины слова и отвечала, что она не собирается жить в деревне и, тем более, выходить замуж за деревенского неотесанного болвана.
Но жизнь её сложилась совсем по-другому. После окончания школы поступала в мединститут, но, не добрав одного балла, была принята в медучилище на фельдшера.
Таисья увидела его издалека. Красивый рослый солдат, проходивший службу в этом городе. Познакомилась, влюбилась. Да так влюбилась, что и махнула рукой на то, что парень-то тот из деревенских и что имя у него совсем не городское — Мефодий. Да и собирается он после окончания службы вернуться к себе на Псковщину. Но любовь была такая сильная, что, как только она окончила своё училище, они поженились. И поехала она со своим любимым мужем Мефодием в его родную глухомань.»
А вот теперь она возвращалась в дом мужа после пяти лет разлуки. Тая ко всему была готова, к любому приёму мужа. Хотя в душе, зная его характер, надеялась на прощение, но не исключала, что мог он ей сказать: «Вот Бог, а вот порог». То, что отец напомнил детям, что она их мама, для Таи показалось маленьким шажком к прощению. Она казнила себя, думая теперь, как же она так смогла, ведь мама: слово с огромным значением, святое слово, это первое слово произносимое ребёнком, забота, любовь, защита, можно бесконечно перечислять, что связано с мамой.
Женщина всматривалась в глаза своих детей и хотела найти ответы на вопросы: помнят ли они это слово — мама, ждали ли они её, появилась ли у них искорка радости, когда увидели её, как они жили без неё? Как детям объяснить, кто она для них теперь, и кто этот, приехавший с ней мальчик? Как сделать? Что сказать, чтобы они вспомнили её прежней? Как себя вести, и как растопить их сердца? С чего начать? Сколько она передумала, оставляя их 5 лет назад с отцом. И сколько ещё предстоит сделать, чтобы заслужить понимание и прощения?
Она, глядя на дочь, тихо сказала:
— Маленькая моя, как же ты выросла, какая же стала красивая.
Произнося эти слова, Таю сковал стыд и страх от того, что дочка могла спросить: Где ты была, мама, почему ты не видела, как я расту?
Когда мать, чувствуя, как Манечка готова была втиснуться в неё, когда увидела в глазах дочери удивление, восхищение и восклицание: «наконец-то»– страх отступил.
Домой вернулся Мефодий уже затемно. Первым делом, словно не замечая, встречающую его жену, зашёл к детям. Пацаны спали каждый на своей кровати. Степан похрапывал, как взрослый мужичок, а Егорка спал тихо.
Он зашёл в комнату своей любимицы – Манечки. Девочка спала в обнимку с малышом, которого привела с собой жена.
Мефодий вошёл в горницу, устало опустился на скамью. Жена поставила на стол перед ним сковороду с пожаренной на сале картошкой, залитой яйцом, которую она держала до этого часа, чтобы та не остыла к приходу мужа, завёрнутой в старую баранью шубу. Мефодий отодвинул от себя сковороду, налил из глиняной крынки молока в кружку. Отрезав ломоть хлеба, он стал медленно есть хлеб, запивая его молоком.
Он поднял глаза на жену и тихо произнёс:
— Ты вот что, Таисья. Смотрю, уже и кровать на двоих разобрала. Так нет, этого не будет. Приехала к ребятишкам, живи, будь матерью, а этого… — и он кивнул в сторону кровати. — Не будет про меж нас. Я сегодня лягу в бане, а там посмотрим, как мы устроим нашу дальнейшую жизнь с тобой. А теперь рассказывай всё, ничего не утаивая. Зачем приехала, и что это за пацан с тобой.
— Да что тут рассказывать? Устала я тогда безмерно от этой тусклой, как мне тогда казалось, жизни. А тут этот учитель с красивыми словами. Ну, и поддалась я его обхаживаниям. Мысли-то были, что когда я с ним в его городе устроюсь, то и детей у тебя заберу. У тебя-то паспорта, как у колхозника, не было – дети-то у меня в паспорте вписаны были. Я его ещё в Калуге, когда я в медучилище училась, получала. Ну, приехали мы в город с тем учителем.
Конечно, сначала всё красиво было – вот и дитё завели. Ты не думай, я скажу тебе честно, очень по детям нашим тосковала. Сколько раз хотела бросить всё и прибежать сюда. Но муж этот оказался человеком очень свирепым. Бил меня часто, даже беременную. Нет, Мефодий, я не хочу вызвать у тебя жалость к себе. Знаю, что я дрянь. Просто рассказываю, как оно всё было. Один раз он избил меня так, что я попала в больницу. Серёженьке тогда годик был. Родители-то мои ничего не знали об этом. Я им только хорошие письма писала, под разными предлогами отговаривая приезжать ко мне в гости. Я по больницам тогда года два болталась, а мальчик мой в то время в приюте для малышей был.
Поэтому он такой запуганный сейчас – немного даже заикается. Я ребёнка забрала сразу, как вылечилась. А учитель-то мой привёл в дом молодую девку и жил с ней прямо при мне. Я долго боялась к тебе вернуться, но когда наступил край и он стал бить ребёнка, я убежала. А теперь суди меня. Хочешь, побей, я теперь к побоям привыкшая. А выгонишь, пойду в колхоз работать. Если возьмут, то, может, и жильё какое-нибудь выделят.
Мефодий сидел, сжимая кулаки. Нет, он не винил Таисью в её слабости – он себя винил. Как он, такой здоровенный мужичина, и не почувствовал: не поехал туда, не забрал её оттуда, где его жене было так плохо.
Он проглотил комок, подступивший к горлу, и тихо прохрипел:
— Ты, знаешь что, а ложись-ка спать. Чего уж теперь. Вот завтра будет у нас баня. Я не поеду в поле, да побудем день вместе. Да попробуем опять притереться друг к другу, да начать попробуем всё сызнова. Дай Бог сладится. А за сына твоего – не трать нервы. Наши ребята его заботой обернут, и вырастет он у нас настоящим мужиком. Да ложись ты, а я пойду в бане лягу...
Баня на следующий день была знатной. Душистый пар обволакивал тело Таи, и ей хотелось, как в былые времена, искупав детей, попариться вместе с мужем. Пусть бы похлестал он её веником от всей силы. Пусть бы выместил всю боль, все унижения, всю злость за себя, за детей. Женщине казалось, что водой теперь она смыла все грехи. Манечку натерла нежненько намыленной мочалкой и целовала её тельце, щекотала спинку, животик. Манечка, видя лицо мамы в мыльных пузырях, заливисто смеялась.
Степан, слыша, доносящийся из бани счастливый смех сестрёнки, подумал, а что же я так себя веду, как индюк в курятнике. Ведь, если Манечке хорошо с мамой, я должен тоже радоваться. Уж, если папка голову поднял, повеселел, что же я её к земле опускаю. Если мама вину признает и прощения просит, что же я зло на сердце держу, словно забыл, как сам прислушивался к каждому стуку, в надежде, что это вернулась мама.
Тая, искупав доченьку, завернула её и передала мужу, который ждал её, чтобы отнести домой. Быстренько ополоснувшись, Таисья освободила баню для мужиков. Маленький Серёжка тоже присоединился к старшим и, как хвостик, попёрся в баню заодно с ними. Худенький бледненький, но с очень умными глазами, братик, вызывал чувство жалости у Степана и Егорки. Мефодий тоже не испытывал к нему холода.
Наоборот, чувствовал жалость и желание защитить его, помочь, накормить, обласкать. Посмотрев на маленького беззащитного малыша, Мефодий мысленно себе сказал: «Ну, в чем виновен этот ребенок? Что – мать непутная или отец с подлой душой? Мал птенец, а уже крылышки ощипаны. Плечики да ребра готовы из кожи вылезти. Весь светится, в чем его вина? Сволочной тот мужик, который свои проблемы на безвинном ребёнке вымещает. Нет уж, не объест и не обопьет нас. Вырастим, ещё как вырастим!»
От мыслей этих даже на душе легче у Мефодия стало.
Его мысли, словно клубок нитей, обмотали его. И он не знал, с чего начать разматывать тот клубок, где найти начало той нити? Надо искупать мальчишку, а уж потом разберусь, что к чему. Налив в большой таз воды, ею малыша обрызгал и повёл вместе с сыновьями в парилку. Старшие сели на верхний полок, малого усадили пониже. Наверху была расстелена ткань пропитанная мёдом. В парилке царил дурманящий запах березового веника, мёда и раскаленных камней, который, как ладан, изгоняет нечистую силу, выгоняет из тела всю хворь, всю слабость, гнев, обиду. Как будто исцеляет душу от плохих воспоминаний.
Три захода делали в парилку. Раскрасневшиеся, довольные, обессилившие, с лёгким сердцем, с добрыми помыслами, искупавшись на славу, шли мужики домой. Мефодий нёс на руках, крепко прижимая к груди, маленького, чужого, но ставшего своим, человечка. А уж дома их ждал урчащий самовар, да на столе стопка блинов на тарелке.
Каждый брал блин, накладывал в него из миски, стоящей посреди стола, давленную с сахаром клюкву и запивал чаем, наливая его из гранёных стаканов в блюдечки, чтобы не горячо было.
Ели молча. Но тут маленький Серёга, смешно заикаясь, громко спросил:
— Так вы жжжтоли моими сродными братевьями будете навсегда? Вот жжждорово!
От этих слов все засмеялись. Дети услышали в первый раз за последние годы, как их батька смеётся в голос.
Поев, Мефодий поднялся из-за стола, поблагодарил Бога и хозяек, вышел из дома.
Таисья спросила ребят:
— Куда это он наладился?
— Так в баню же, — ответил старший сын Степан. — Он всегда после мытья, пока вода горячая, идёт в баню стирать бельё своё, наше, да постельное.
Манечка сказала:
— А ты бы, мам, шла, пособила бы папке стирать, с посудой-то я и сама справлюсь.
Серёга воскликнул:
— Я с мамой, — и побежал догонять Таю.
Но Стёпка, подхватив его на ходу и посадил наверх, на лежанку русской печи, сказав:
— Полежи, братишка, там. Сейчас Егор тебе книжку почитает. Не лезь к родителям. Им сейчас хорошо одним в бане побыть..."