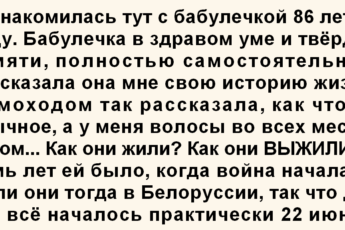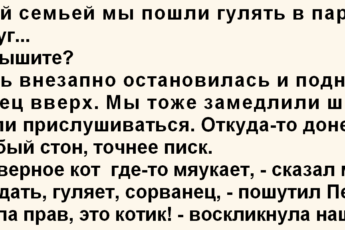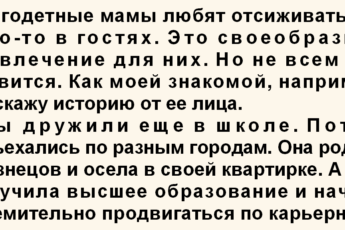Поезд приближался к Львову. Пассажиры уже начали собирать багаж и упаковывать чемоданы, когда в раскрытую дверь нашего купе просунулась голова пожилого проводника:
— Граждане, если у кого есть съестные остатки, не выбрасывайте, отдайте мне… — в руках он держал бумажный кулёк, свернутый из старой газеты. Там уже лежало что-то.
— Что, свинью выкармливаешь, друг? — громогласно осведомился коренастый, пышущий здоровьем, военный, всю дорогу дувшийся в соседнем купе в преферанс. — Хорошее дело! Люблю поросятинку, поджаристую, с косточкой…
— Нет, это не для себя, — уклончиво возразил проводник. — Я как-нибудь проживу и без этого…
Странно. Полчаса назад я видел его у мусорного ящика в тамбуре — он выуживал из него куски хлеба, обглоданные кости, засохшие сырные корочки. Делал это сосредоточенно, будто выполнял какую-то важную работу, и нисколько не смутился от того, что его застали за таким занятием. «Видно, не в первый раз», — подумалось мне; так оно и было.
Завернув добычу в смятую газету, он тотчас отнёс ее к себе. Для чего или для кого он копил? Нищим, что ли, подавать? Но за всю дорогу мы не видели ни одного попрошайки. Кому это, действительно, может быть ещё нужно, кроме свиней и поросят? Не сам же он собирается это есть!
Сказать честно, я даже подумал нехорошо об этом серьёзном сдержанном человеке, на которого у нас за сутки с лишним пути не было ни единого нарекания.
Выколачивает дополнительные доходы из своей должности?
Проводник держался достаточно вежливо и в то же время твёрдо. Впрочем, никто не собирался ему перечить.
Известно, что в пути пассажиры едят, остается много объедков. Всё это мы собрали и отдали ему.
— А всё-таки кому же? — спросила молоденькая пассажирка-студентка, возвращавшаяся в институт после каникул, аккуратно сметая в подставленный кулек колбасную шелуху, чёрствые корочки и крошки.
— Сейчас вы увидите, кто меня будет встречать… Скоро будет станция, поезд на ней стоит долго… — он оставался серьёзен, все шуточки и намёки отскакивали от него; только в глазах появилось какое-то новое выражение.
После, я видел, он прошёл по всему вагону, заглянул во все купе — всё с той же единственной целью.
Вагоны начали замедлять свой бег. Толчок. Поплыли чистенькие станционные постройки с красными черепичными крышами в том характерном стиле, по которому сразу отличишь Западную Украину — бывшую Галичину, или Красную Русь, окраинную часть нашего государства, — с тщательно ухоженными пашнями, чередующимися с небольшими перелесками, с разгуливающими группами и в одиночку важными грачами и замершими на одной ноге аистами.
Ещё толчок, локомотив затормозил… Высунувшись из окон, мы следили за проводником. Стоя на нижней ступеньке вагонной подножки со свертком под мышкой, он кого-то искал глазами.
Вот! Неужели ее? На перроне стояла старая-старая овчарка с мутными глазами, с облезшей свалявшейся шерстью, с обломанными расщеплёнными когтями, как бывает всегда у очень возрастных, запущенных и мало двигающихся собак. Весь вид её говорил, что она стара, одинока, лишена присмотра и ласки. Стара — ибо морда ее была седа (собаки с возрастом седеют, как и люди), в глазах синева, старческая катаракта; и без хозяина: гребень и щётка давно не касались ее шкуры.
Судя по всему, она бедствовала долго, и лишь опытный глаз по признакам экстерьера установил бы, что когда-то это было великолепное породистое животное, полное силы и красоты. Собака не проявила бурной радости, увидев проводника, лишь чуть шевельнула облезлым хвостом. Однако поведение, изменившееся выражение ее морды, когда проводник, спрыгнув на перрон, подошёл к ней, говорили, что она встречала именно его.
В руках у проводника теперь был уже не кулёк, а целый мешок: кулька не хватило, и он, сняв грязную наволочку с подушки, наполнил её. Мы ждали, что, отойдя в сторонку, он сейчас высыплет содержимое наволочки перед собакой где-нибудь под кустом или сперва угостит лакомым кусочком, а после отдаст остальное. Но — нет: потрепав собаку по загривку, как старую знакомую, он сразу заторопился куда-то прочь; животное потащилось за ним. Оба скрылись за углом.
Проводник вернулся, когда мы уже начали опасаться, что он опоздает к отправлению поезда. Наволочка была пуста, на лице его читалось выражение спокойного удовлетворения. Казалось, человек сделал что-то важное, необходимое, и теперь совесть его чиста.
— Это что — твоя подшефная? Давно ты обслуживаешь её? — спросил преферансист. — А хозяин что, не кормит?
Со свойственной этой категории людей прямолинейностью и грубоватой, но не обидной, фамильярностью он, кажется, готов был подтрунивать над человеком в железнодорожной форме, которому, видно, не хватало своего дела, что он ещё заботился о какой-то полудохлой беспризорной псине.
— Хозяина нет. Она ничья. Хозяева все мы…
«Хозяева все мы». Прозвучало строго и с укором.
И дальше мы узнали историю этого пса.
Когда-то овчарка принадлежала полковнику в отставке, ветерану Великой Отечественной войны. Человек одинокий и больной, он жил здесь, в пристанционном посёлке, коротая дни в обществе собаки. Несколько лет назад он умер. Хоронить его приехали дальние родственники, друзья-однополчане.
В траурной процессии вместе с людьми шла за гробом и собака. Вместе со всеми она присутствовала при погребении, видела, как, глухо стукнув, упали на крышку гроба первые пригоршни земли, как стал расти холмик, поставили звезду, напоминающую о ратных делах и заслугах покойного. Отзвучали прощальные речи, отзвучал последний прощальный салют, люди ушли, а собака осталась.
Она стала жить на кладбище. Она не хотела покинуть место вечного упокоения дорогого ей человека, не соглашалась расстаться с ним. Кто-то построил ей будку рядом с могилой. Там она и жила, неся круглосуточно свою последнюю вахту — в летний зной и в зимнюю стужу, в дождь и в пургу…
Добрые люди приносили еду; но когда-то принесут, а когда-то и не принесут…
Голод вынуждал её выходить и искать себе пропитание на станции. И вот там однажды она встретилась с проводником. Сколько людей прошло мимо неё, не заинтересовавшись, зачем она тут, чья, что делает. Он — не прошёл. Он оказался человеком доброй души, он покормил, приласкал её, — и с тех пор вот уже в течение нескольких лет она неизменно являлась на свидание к нему.
Без расписания и часов она превосходно знала, когда приходил поезд, шёл ли он в ту или в другую сторону, и не опоздала ни разу. А он, в свою очередь, каждый раз исправно собирал остатки пассажирских пиршеств и относил ей в конуру на кладбище. Ей хватало, чтоб не умереть. Наверное, если бы не он, она давно бы погибла.
Вероятно, по-своему она привязалась к нему, хотя бурно не выражала своих чувств, — он ведь был теперь единственным человеком на всем белом свете, благодаря заботам которого она продолжала существовать.
— И вот что особенно удивительно, — говорил проводник. — Ведь расписание два раза в году, весной и осенью, меняется. Спросить она не может. Прочитать, само собой разумеется, тоже не может. Но каким-то удивительным инстинктом она всегда вовремя узнает об этом и, глядишь, опять тут…
Он помолчал и добавил:
— И ни разу она не пыталась зайти за мной в вагон, ну никак. Звал — нейдет…
Нет. Она знала и ждала его, радовалась всякий раз, когда на перроне появлялась знакомая приземистая фигура немолодого мужчины в привычной форменной фуражке железнодорожного служащего, но ни разу не изменила тому, мертвому.
— Что же вы раньше не сказали мне! — закричал наш спутник майор.
Швырнув на сиденье щегольской чемодан желтой кожи, он рывком отбросил крышку и, выхватив полкруга дорогой копчёной колбасы, ткнул проводнику:
— Нате! Отнесите ей!
— Не успеть, — покачал тот головой. — Завтра мне ехать с обратным рейсом, вот тогда я передам ваш подарок…
— Возьмите и это, — сказала студентка, протягивая кусок аппетитного домашнего пирога.
Поделились все, кто чем мог.
Поезд тронулся, унося воспоминание о прекрасном преданном существе. Колёса отстукивали километры, а мы все что-то притихли, приумолкли, и у всех в глазах стояло это удивительное создание, которое даже после смерти хозяина продолжало хранить ему верность. У студентки на глазах блестели слёзы.
А мне вспомнилось.
Во Львове на знаменитом Лычаковском кладбище есть скромный памятник. Ему много лет, стёрлись надписи, выветрился, стал шершавым и позеленел камень, но, побеждая время, продолжает оставаться ясным и светлым смысл памятника.
Надгробная плита покрывает старинный, вросший в косогор, склеп; на ней — бюст мужчины с удлиненным лицом как у древних славян, в полустёртых чертах угадывается мужественность и воля; обок, с двух сторон, две лежащие длинноухие собаки, похожие на пойнтеров. Изустное предание, передаваемое из поколения в поколение, повествует: когда окончил свой земной путь сей безвестный, две собаки продолжали ходить на его могилу, — и в конце концов их нашли тут мёртвыми…
Каменные, они и поныне продолжают охранять его покой.
Ничего не сохранилось. Ни имени, ни прозвания. Кто он был? Чем занимался? Неважно.
— Это был человек, — не отрывая задумчивого взгляда от бюста, негромко и отчётливо сказала сопровождавшая меня женщина, местная жительница. Ее слова запомнились мне.
Любят — человека, и старый осиротелый пес с потухшими слезящимися глазами, с каждым оборотом колёс всё больше отдалявшийся от нас и, тем не менее, остававшийся с нами, был живым подтверждением этого. Любят — человека!
Человеком был полковник, владелец верного животного, потерявший на войне всех близких.
Человек — наш проводник. Мне стало стыдно, что я плохо думал о нём. В новом свете предстали передо мной и бравый, немного беспардонный, вояка, изрядно надоевший за время пути со своим преферансом, и милая, славная черноглазая украинка-студентка, и другие, проявившие живое сочувствие к бездомному одинокому псу. Если старый пёс был олицетворением долга, не знающего компромиссов, то и люди понимали свой долг по отношению к живому существу!
А поезд продолжал отстукивать колёсами, увозя грустную и прекрасную легенду-быль о преданном сердце бессловесного существа, над которым оказалась не властна даже смерть.
Потрясённые, мы продолжали молчать и думать каждый свое. Казалось, там, на станции с красными черепичными крышами, название которой мы даже не успели запомнить, осталась частичка каждого из нас. Мы будто потеряли кого-то очень дорогого и близкого. И так хотелось сейчас обогреть, приласкать животное, сказать ему доброе слово… Долго ли оно еще будет жить там? Сколько ему осталось?
Я представлял, как пёс укладывается в своей холодной, продуваемой ветром, конуре и ждёт. Чего? А, может, и не ждёт. Ведь только люди живут надеждой, разумом, расчётом. Животное просто любит; и коль любит, отдаётся этому без остатка — такова его натура.
Любовь к человеку… Когда-то далекий пращур наш, ещё не вышедший из полудикого состояния, которого мы уже не можем рассмотреть за дальностью веков, подарил хищному зверю первую ласку, первое человеческое тепло — и зверь ответил на это такой силой преданности, которая не перестает изумлять по сей день. Дряхлый немощный пес показывал пример того, как надо любить.
Я думал о нём, а в памяти вставал длинный ряд таких же, как он:
Фрам — угрюмый северный пёс, вожак ездовой упряжки, похоронивший себя в ледяной пустыне, где остался его мёртвый друг Георгий Седов;
Бобби из Грейфрайерса — небольшой лохматый шотландский терьер, проживший годы на могиле старого пастуха;
Кучи — пёс из Варны, который, стоя на берегу моря по брюхо в воде, оплескиваемый солёными волнами, ежедневно ожидал своего пропавшего без вести хозяина-рыбака;
«итальянец» Верный, в течение четырнадцати лет не пропустивший ни одного поезда, на котором, по его расчетам, должен был возвратиться его хозяин — машинист, убитый фашистской бомбой, — и подвиг собачьей души вырастал в нечто поистине беспредельное, величественное и гордое…
А колеса продолжали стучать, стучать…
***
Джек Лондон однажды записал: «Самоотверженная и бескорыстная любовь зверя проникает в сердце того, кто испытал шаткую дружбу и призрачную верность человека…»
Не в укор вам, люди: задумайтесь над этими словами!

Автор: Борис Рябинин