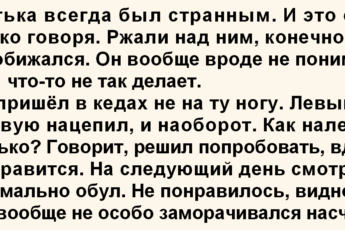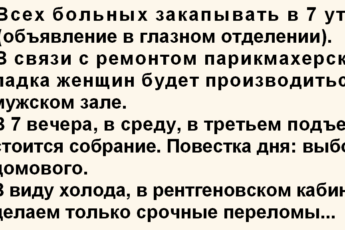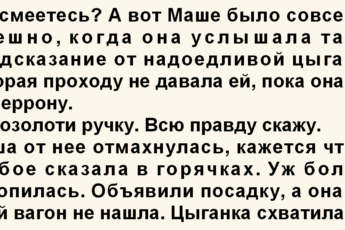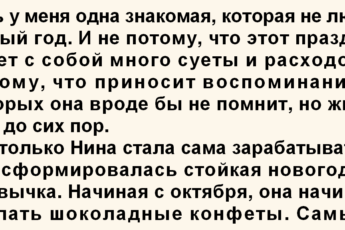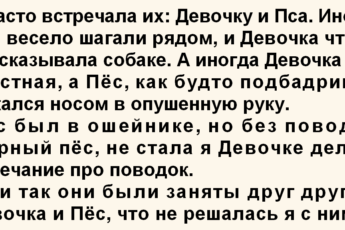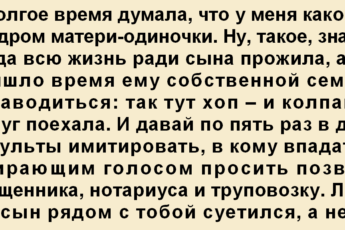Савельич и Пахомовна были коренными деревенскими жителями. Их большой дом-пятистенок был самым красивым и добротным в деревне. Недаром Савельич, мужчина богатырского сложения и силы, фронтовик, прослыл лучшим плотником в округе. А уж для себя-то он расстарался, славный домина отгрохал. Его семья считалась зажиточной, дом был полная чаша...
Большие деньги зашибал Савельич, но не всегда они лишь хорошее людям приносят, и стал плотник попивать. А что? Четверых детей вырастили, в город отправили, и не с пустыми карманами, между прочим.
Всех в институтах выучили. Живут теперь дети с семьями в своих квартирах, да ни где-нибудь, в самом областном центре, а старший сын Коля так вообще в самой столице. Так что имею полное право, утешал сам себя Савельич, пытаясь оправдать свою слабость.
Трезвым Савельич был человек, как человек, но стоило ему хлебнуть лишка, то пиши пропало. Савельич шёл в разнос! Дух всемирного противоречия мгновенно вселялся в него, проявляясь во всей силе своего могущества.
Пахомовна, пытаясь совсем искоренить эту вредную привычку, воевала с мужем, ругала, забирала все деньги, только всё без толку. Савельичу, конечно, и самому было стыдно, он горячо клялся и божился, что больше ни-ни, да только редко, но метко всё повторялось вновь.
С годами стало подводить здоровье. Спину и особенно раненую на войне руку к непогоде ломило так, что хоть волком вой. Пришлось оставить плотницкое дело. Председатель колхоза поставил его конюхом. Савельич был не против. Накормить десяток лошадей да жеребят, почистить, съездить куда скажут. Это тебе не топором целый день махать, да брёвна ворочать. Да и много ли им с Аннушкой теперь нужно?
Пахомовна хворать часто стала. Она дома “сидела”, по хозяйству. А хозяйство-то было: корова, телёнок, три поросёнка, десяток овец, пара десятков кур, столько же гусей, да индюков, огорода соток десять, да под картошкой полгектара. И всего то! Не то, что раньше было.
В целом, жили они дружно. Савельич как полюбил свою Аннушку с самой первой встречи, так и не существовало для него больше женского пола, кроме жены. Очень он её любил, но вида не подавал, чтобы не зазналась случаем, да и не принято это в деревне.
Послал по весне председатель Савельича за гвоздями в большое соседнее село. Поехал, получил, ящик в телегу на сено бросил, пару бутылочек красненького прикупил себе “для бодрости”, жене всякого по списку, да назад, домой.
Приехал, “подбодрившись”, уже в сумерках. Распряг лошадь, глядь, а в сене шевелится кто-то, да пищит. Оторопь подвыпившего Савельича взяла.
Осторожно полез в сено. Вынимает кутёнка, тощего, страшного. Тьфу, ты, чего испугался, посмеялся он в душе над собой. Не иначе это ребятишки, что у сельпо крутились, в телегу подбросили. Задал корма, налил воды лошадям, запер конюшню и домой. Подойдя к дому, увидел, что этот доходяга приковылял за ним.
– Ах ты, дьявол, а ну пошёл отсюда, ну!!! — рявкнул Савельич, топнув для острастки.
Кутёнок исчез в темноте.
Утром Пахомовна, подоив корову, из жалости налила тщедушному пришельцу парного молока.
— Опять он здесь! Ты чего это его приваживаешь? Али теперь всех блудных кормить будешь? Гони его со двора! — потребовал Савельич.
— Креста-то на тебе нет, ведь пропадёт животинка. Поди уж не объест она тебя! Вино-то твоё, поди, не выпьет. Опять давеча бражничал, а что обещал, забыл? — наступала на него жена.
Крыть Савельичу было нечем, виноват.
Это была девочка, мелкая, плохонькая, большой не вырастет точно. Пахомовна назвала её Мухой и поселила в старую будку, оставшуюся от её предшественницы, настелив побольше соломы для тепла.
— Давай, давай, корми! Погоди ужо, она тебе и кутят натаскает! У-у-у, прорва! — ругался Савельич, осуждающе глядя на Муху, опустошающую свою миску со скоростью звука.
— Не твоя печаль. Ежели путёвой сторожихой будет, так и кутят по дворам разберут, — парировала жена.
На парном молоке и сытном хлебушке хозяйки Муха подросла, похорошела и стала похожа на собаку. Сторожихой она была очень даже путёвой. Попусту не лаяла, только по делу. Могла и зубы в ход пустить, если что. Со двора не убегала, как большинство деревенских собак.
Прошло несколько лет. Утром, накануне ноябрьского праздника, Пахомовна не обнаружила Мухи, ждущей своей порции парного молока. Она лежала в будке и не выходила.
Заглянув, хозяйка увидела новорождённого щенка, чисто белого окраса. Белых собак у них в деревне отродясь не бывало!
— О-о-от, — ликовал, куражась, подвыпивший Савельич, — плодиться теперича начали! Ну прорва!!! Вот подарочек тебе, мать, к праздничку! Погоди, ужо, скоро весь двор в собаках будет заместо скотины да птицы! Людям на смех! Она тебе натаскает! А что я тебе говорил?! Упреждал!!!
Многозначительно глядя вверх, мстительно улыбаясь, хмельной оракул высоко поднимал свой большой корявый палец, потрясая им так, словно призывал в свидетели небеса и одновременно грозил Вселенной.
Так у стариков появилась ещё и Белка, со всеми материнскими повадками, только белая. Савельич смирился. Жизнь потекла своим чередом. А через год грянула беда.
Не на шутку занемогшую Пахомовну дети отвезли в город, где ей сделали запоздалую тяжёлую операцию. Пахомовна осталась у дочери. Наняли сиделку — медсестру из соседнего дома. Наступила зима, холодная и снежная. Надеялись только на чудо...
Узнав о тяжёлом состоянии своей Аннушки, Савельич прослезился. Подумав, он продал корову. Забил бычка, поросят, овец, птицу и на следующий день отвёз на рынок в райцентр, где всё быстро расторговал. Снял с книжки все накопленные деньги. Зачем ему теперь это всё? Получилась крупная сумма, которую он отправил переводом дочери в город.
— Олюшка, дочка!!! — кричал он на почте в телефонную трубку, — Как получишь, отдай деньги-то докторам! Пусть нашу мать вылечат! Ты уж их там упроси! Только сперва одари, оно, глядишь, и получше лечить-то будут! — наставлял он дочь.
Слёзы душили Савельича. В сельпо он купил вина и хлеба. Приехав, распряг Грома, справил работу по конюшне и побрёл домой. Голодные Муха с Белкой радостно выбежали навстречу и завертелись вокруг себя волчком, так они делали в минуты сильных душевных волнений. Не смотря на суровость Савельича, они любили его, ведь он был их хозяином.
Безучастно посмотрев на радующихся собак, Савельич бросил им целую буханку хлеба.
— Нате, ешьте, прорва!
Обиходил скотину, затопил печь и принялся заливать своё горе вином. Пуще смерти Савельич боялся страшной вести из города. Наутро, толком не протрезвев, он принимался за привычную работу. Всё хозяйство теперь было на нём, ещё и конюшня. Его прорва — Муха и Белка повадились всюду сопровождать хозяина, окрики и угрозы не помогали.
Каждый день валил снег. Таких снегопадов не помнили деревенские долгожители. Колхозный трактор еле как справлялся. На третий день после обеда опять начался снегопад. У Савельича горела душа.
Решив ехать в сельпо, он посмотрел на потемневшее небо, быть бурану. Ничего, до вечера проскочу, всего-то чуть поболее трёх верст, думал он, запрягая в сани любимого Грома. Его прорва, вертевшаяся на конюшне, увязалась за ним.
Гром шёл неспешно, Муха и Белка поспевали, держались чуть поодаль, опасаясь хозяйского кнута. В сельпо, запасаясь вином, Савельич встретил старого знакомого. Ради такого случая решено было выпить.
Стемнело, подул сильный ветер, снег повалил стеной, начинался буран. Собаки и лошадь волновались, это заметил приятель сильно опьяневшего Савельича.
— Всё, Иван, по домам. Ишь, не шутейно под ночь закружило, а тебе ехать. А то смотри, может у нас заночуешь? Нет? Ну, тогда давай, “на посошок”.
Дорогу сильно замело. Ветер со снегом были такой силы, что в двух шагах не видно ни зги. Умный Гром шёл уже невидимой дорогой вдоль оврага по памяти. Собаки сильно отстали. Пьяный Савельич задремал, крепко держась за вожжи.
В какой-то момент он стал заваливаться на бок и, пытаясь удержаться, всем весом рывком дёрнул вожжи в сторону оврага. Гром от неожиданности громко заржал и резко повернул, разметая глубокий снег могучей грудью.
В горячке Гром с санями съехал вместе с обрушившимся снегом в овраг. Савельич выпал из саней. Конь и человек, провалившись в глубокий снег, оказались в смертельной ловушке. Их криков не слышал никто, кроме собак, пробравшихся по ещё не заметённому следу к краю оврага.
Через некоторое время, расчищая дорогу для возвращавшегося с района председателя, ехал колхозный трактор. Спешащий тракторист не заметил следа в сторону оврага и окончательно засыпал его. Белка и Муха, с лаем выскочившие за помощью, так же были не замечены и едва не раздавлены и не погребены отвалом под снегом.
В свете фар старого Газика, председатель неожиданно увидел на снежной дороге двух маленьких, облепленных комьями снега, воющих собак конюха. Посигналил, но собаки не уходили, вертелись вокруг себя волчком. Председатель вышел из машины, собаки, лая и подвывая, начали карабкаться на снежный навал.
Полуживого Савельича привезли домой. Пришла бабка Калиниха с травами и мазями. В избе жарко натопили. Больного растёрли бабкиными снадобьями, укутали в тулуп и положили на лежанку.
— Только в город не звоните... нельзя... Аннушка... — просил в полубреду Савельич.
Несколько дней Савельич лежал без сил. Пришли сильные морозы. Чем питались Муха и Белка эти дни, неизвестно, но со двора не ушли, тихо сидели на крыльце.
Неожиданно открылась дверь. Савельич в накинутом тулупе, подхватил на руки свою прорву, понёс в тёплую избу. Наложил по полной миске пшённой каши с топлёным маслом и задумчиво гладил по заиндевелой шерсти, уплетавших невиданное лакомство, маленьких Муху и Белку.
— Вот вы, значится, какие..., — шептал старый фронтовик.
— Слыхали, Савельич-то совсем с ума сбрендил, собаки у него прямо в избе живут! — переговаривались у клуба.
Куривший рядом председатель перебил говорящих:
— Савельичу этих собак надобно теперь всю жизнь на руках носить без праздников и выходных, а не только в избе от мороза греть! — серьёзно заявил он и, бросив папиросу, пошёл в клуб открывать собрание.
В самом начале весны радостный Савельич ехал на запряжённом любимце Громе к автобусу, встречать свою Аннушку. На мягком сене деловито сидели Муха и Белка. Они тоже ехали встречать свою хозяйку.
К спиртному бывший фронтовик больше никогда не притрагивался. Они прожили все вместе ещё много счастливых светлых лет...

Автор: Наталия С