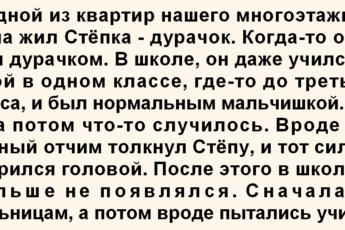Поехал Фома в город на заработки да и сгинул.
Авдотья, жена его, осталась в деревне. Сначала-то от Фомы весточки приходили, а потом вдруг месяц, другой... нет от Фомы известий. Что, как — ничего неизвестно. Вот уж другие мужики домой вернулись, а Фомы все нет и нет. Стала Авдотья расспрашивать, никто ничего сказать не может. Говорят, отошел он от артели, уехал, а куда дальше делся — кто ж его знает?

Затосковала Авдотья. Ждет, ждет, а никаких новостей нет. Раз только ехал какой-то мужичок через их деревню, сказывал, мол, знавал он какого-то Фому, а уж того или нет, не ведает. Зазноба у него в городе, вот и не хочет домой ехать.
Авдотья-то сперва заругалась на того мужичка, а потом раздумалась: а ну, как и впрямь?.. Соседки посмеиваются, а сказать в ответ нечего. А пуще всех — бабка Чаплыжка. Самая она вредная в деревне была, никому покоя не давала. Язык до того острый, что слова, точно косой, по самому сердцу режут. Выйдешь к колодцу, а уж она там:
— Что-то, Авдотьюшка, давно ты в церкви не была. Другая б на твоем месте все коленки стерла, о муже бы молилась, а тебе, видать, и так хорошо живется.
— Не твоя это печаль, бабка. — бросит Авдотья, а у самой душа не на месте.
Днем-то у нее забот — только успевай поворачиваться, а к вечеру тоска нападать стала. Деток у них с Фомой не было, сидит она одна в избе, на душе безрадостно.
«Что, — думает, — коли приворожила его в городе какая красавица? Мужик он видный, бывало, все девки на него заглядывались.»
Задумается так, и до того ей делается горько, что выть охота. Вот раз и взвыла она с тоски да и бросила в сердцах:
— Чтоб тебе провалиться, негоднику, да гореть на сковородке!
Взяла Авдотью обида на долю свою, на Бога, поснимала она иконы да и попрятала в сундук.
Вот неделя, другая проходит. Ночью слышит Авдотья стук в дверь. Испугалась она маленько, спрашивает:
— Кто там?
— Я, — отвечают, — Фома! Открывай, Авдотья!
Обрадовалась Авдотья, скинула засов, распахнула дверь. Фома стоит, улыбается. Тулуп совсем запорошен, шапка вся белая, а уж на валенках-то снега! Кинулась Авдотья к нему на шею, плачет от радости, опомниться не может!
— Фомушка, голубчик! Да как же ты ночью-то! Живой, вернулся, а я уж и не чаяла! Люди разное болтают, совсем я умом рехнулась...
— Ну, ну! — смеется Фома. — Люди болтают, а ты и послушала?
Смутилась Авдотья:
— Да я, Фомушка, не то, чтобы... А давай-ка ужинать тебе соберу!
— Устал я, Авдотья, не хочется. Мне бы отоспаться, а то затемно снова уходить.
— Как так, — спрашивает Авдотья, — затемно?
— Да так... В Лежнево, Ерофей Елисеич — знаешь его — нанял нас помочь ему. Идти не близко, затемно встать нужно.
— Да ведь только приехал ты, Фомушка!
— Что поделать... Нам, Авдотья, заработок не помешает. Плохо у меня дела шли в городе, почитай, я и не привез ничего.
Уложила Авдотья мужа на полатях. Только он голову приклонил, а уж заснул. Затемно, как и обещал, проснулся, засобирался.
— Фомушка, поешь в дорогу, ты ведь с вечера и не ужинал.
— Некогда. Обещал Ерофей Елисеич накормить нас, работников. Пойду поскорее, а к вечеру опять вернусь.
Ушел Фома, а Авдотья радуется: живой, вернулся! А что без денег — ну, что ж, Фома — мужик работящий, заработает! Вон, до петухов еще поднялся, по снегу в другую деревню пешком пошел!
Вот так и повелось: Фома затемно уходит, затемно возвращается. Словечком перекинуться и то некогда: чуть приляжет, тут же храпит. Авдотья уж и рада, и не рада. Изведет ведь Фома себя такой работой!
Вот вышла как-то она к колодцу, бабам жалуется:
— Вернулся мужик мой, а ровно и нет его. Света белого не видит за работой.
Бабы давай расспрашивать. Все им Авдотья перессказла, повздыхали соседки, поохали. А бабка Чаплыжка послушала Авдотью, послушала, усмехнулась:
— Чегой-то не видать его следов-то на снегу. Кабы он ушел, так вон бы куда его следы вели, а то снег лежит ровнехонько!
Осерчала Авдотья:
— Все бы тебе, бабка, смуту сеять! Что с того, что следов не видать? Ветер подул, поземка все и затянула! Мужик мой себя изводит, работает, а ты насмехаться удумала! У, подлая!
— Дура ты! — сплюнула бабка Чеплыжка. — Как есть дура ты!
Вот дело к воскресенью, дождалась Авдотья Фому вечером, радуется.
— Пойдем с тобой в церковь, Фомушка, соседи уж о тебе спрашивали!
— Некогда мне, Авдотья, с тобой по соседям бегать. Работа сама себя не справит.
— Да ведь воскресенье! — всплеснула руками Авдотья, — Неужто ты все дни работать будешь?
— Что нам с тобой воскресенья? — ворчит Фома, — Ты, вон, и сама иконы поскидала, не до праздников нам.
— Да то я сгоряча, Фомушка, людей понаслушалась... Я, погоди-ка, назад их повешу!
— Не надо. В сундуке надежней. — перебил Фома. — Да и тебе что за охота ходить? Опять людей слушать?
Ушел он, как всегда, спозаранок, а Авдотья, все-таки, в церковь засобиралась. И то ведь, сколько уж не была! Фома вернулся, а она и Бога не поблагодарила!
Вышла, видит, Ерофей Елисеич в санях едет! Аж сердце у нее зашлось: работников своих неволит, а сам катается! Вот поравнялись они.
— Что же ты это? — закричала Авдотья, — Сам в церковь, а людям продыху не даешь?
Оглянулся Ерофей Елисеич, головой покрутил:
— Ты, соседка, мне, что ли, пеняешь?
— Тебе, тебе! — шумит Авдотья. — Пошто работникам отдыху не даешь?
— Да каким таким работникам?
— Ишь ты! — пуще кричит Авдотья, — Каким еще работникам, спрашивает! Гляньте, люди добрые! Мужик мой, почитай, всю неделю на него работает, так и в праздник ему передышки нет!
Собрался вокруг них народ, стоят все, слушают.
— Не пойму я, Авдотья, о чем ты мне толкуешь. — развел руками Ерофей Елисеич. — Нет у меня нынче никаких работников.
— Да разве Фома мой не к тебе каждый божий день затемно на работу уходит?
Снял Ерофей Елисеич шапку, перекрестился на церковь:
— Вот перед Богом и людьми тебе говорю, Авдотья: не видал я твоего Фому с самой весны. Было дело, нанял я двоих наших мужиков на той неделе, вон, Ивана с Гордеем. Да только мы за день и управились. Никто у меня больше не работал, соседка, зря ты на меня шумишь.
— А куда же Фома-то ходит? — вскинулась Авдотья.
— Это уж, соседушка, мне не ведомо. А только у меня он не был. — сказал Ерофей Елисеич, и пошел. А Авдотья стоит и аж в глазах у ней темно стало. Народ вокруг хохочет, пальцами на нее показывает. Вдруг слышит:
— Ну, чего регочите, как кони? Эка невидаль: соседи поругались! Ступайте, куда шли!
А это бабка Чаплыжка подошла. Схватила Авдотью за руку и потащила за собой:
— Пошли-ка ко мне, не стой здесь, как пень на дороге.
Привела бабка Чаплыжка Авдотью к себе домой, усадила, налила отвару согревающего.
— Ну-ка, расскажи мне все, как есть! — говорит.
Заплакала Авдотья в голос, а как успокоилась, так все бабке и поведала. Выслушала ее бабка и говорит:
— Ты, дура-баба, сама подумай: какая такая зимой в деревне работа, чтоб работников нанимать?
Задумалась Авдотья. Ерофей Елисеич мужик, кoнечно, зажиточный, а все не такой, чтоб артель нанять. Он и в страду-то одного, много, двух работников приискивал, а уж зимой-то зачем ему?
А бабка дальше ведет:
— Мужик твой не пьет, не ест, к тебе не ластится, света белого чурается, иконы велит в сундуке держать... Да твой Фома, узнай, что ты иконы в сундук покидала, так разбранил бы тебя!
— Верно, бабушка... — ахнула Авдотья, — Я и то подивилась, как это он не вдруг заметил.
— А я так думаю, — говорит бабка Чаплыжка. — все он заметил. И то заметил, что в церковь ты не ходишь, и что худое про мужика своего подумала, и что на Бога обижена.
— Да как же это, бабушка?.. — обомлела Авдотья, — Ведь я про то ни словечком!
— Что ему твои словечки, когда и без слов все ведомо!
— Кому ему-то? — прошептала Авдотья, а уж сама ни жива, ни мертва от страха.
— Скумекала, дуреха? — спрашивает бабка. — Ты вот что, как смеркаться начнет, так приходи ко мне ночевать. А уж завтра с утра и пойдешь в церковь, помолишься да прощения у Бога попросишь.
Вот свечерело, засобиралась Авдотья к бабке Чаплыжке. Только за порог хотела, как затревожилась:
— Что же это я: бабку Чаплыжку эту подлую послушалась, а мужа — нет? Ведь сказал же — не ходить, людей не слушать!.. Морозы-то вон какие! Вернется Фома с работы усталый, а меня и дома нет, и изба заперта... Нет, уж лучше я завтра с утра в церковь и сбегаю, а сейчас мужа ждать буду.
Только подумала так, стук в дверь: Фома вернулся! Глянула на него Авдотья, и аж похолодела. Глаза красные, лицо хмурое, никогда его Авдотья таким не видала.
Прошел он в избу, сел на лавку. Валенки не отряхнул, шапку не снял. Смотрит на Авдотью, а глаза будто самую душу выжечь хотят.
— Что ты, Фомушка? — спрашивает Авдотья, — Ты, никак, выпил?
— Ишь, беда какая! — скривился Фома, — Много ли ты меня видала пьяного?
Смутилась Авдотья, верно же, не видала она Фому пьяным. Может, и поднесли ему, велико ли горе!
— То так, Фомушка, — говорит, — А хочешь, еще налью тебе? У меня есть.
— Не надо мне. — отвечает Фома, а сам так и буравит глазами. Не выдержала Авдотья:
— Что ты, Фома, глядишь так нехорошо на меня?
— Да поговаривают люди о тебе нехорошо, вот и гляжу я нехорошо.
— Что же такое поговаривают?
— Недоброе ты против меня замыслила. Извести меня задумала.
— Кто же такое тебе сказал? — задрожала Авдотья.
— Да вот хоть бабка Чаплыжка твоя. Нашла, кому душу изливать да кому на мужа жаловаться! Я ль тебя не просил, Авдотья, людей не слушать!
— Правда, Фомушка, правда... — а такой тут страх напал на Авдотью, что едва ноги держат. — Ох! Да ведь я сенцы не заперла! Пойду, крючок накину!
Только Авдотья хотела из избы выскочить да бежать к бабке Чаплыжке, а Фома уж ей дорогу преградил:
— Сам запру.
Шагнул он в сенцы, а Авдотья — раз, и засов задвинула! Потом кинулась к сундуку, схватила икону, прижала к себе и стала молиться Господу Богу да Пресвятой Богородице.
Слышит, стучат в дверь, да так, что от каждого удара вся изба содрогается.
— Открой, Авдотья, по-хорошему!
— Уходи! — кричит Авдотья, — Ты не Фома вовсе, не знаю тебя!
— Открой, дуреха, холодно ведь!
Села Авдотья на лавку в дальний угол, икону к груди прижимает, а сама просит:
— Господи, помоги! Матерь Божья, заступись!
В сенцах стук потише стал, и зовут ее уже тихо так:
— Авдотьюшка, ну, отопри же, будет шутки шутить! Ночь на дворе, спать сейчас ляжем! — а голос такой ласковый, как прежде бывал!
Хотела уж Авдотья привстать, а ее будто чьи-то руки обнимают и двинуться не дают.
— Ведь замерзну я, Авдотьюшка, неужто ты смерти моей хочешь?
Повалилась тут Авдотья на лавку без памяти, так до утра и пролежала. Очнулась от того, что светло за окошком стало. Выскочила в сенцы, а там: все перебито, переворочено, посломано! И нет никого.
Побежала Авдотья к бабке Чаплыжке.
— Эх, глупая ты! — говорит та, — На что ты дома осталась? На что ко мне не пришла? Ведь чуть ты не пропала! Когда еще я сказала тебе: молись о муже! А ты что?
Долго Авдотья с бабкой Чаплыжкой сидела. Совсем бабка не подлая оказалась, а что на словцо острая, так каждое ее словцо — что лыко в строку было.
От бабки пошла Авдотья в церковь, поклоны била за свое спасение, прощения просила за маловерие. А пуще всего — за Фому молилась: ежели жив, то пусть домой вернется, ежели нет, то пусть Господь его душу к себе возьмет.
Вернулась домой, все иконы на место повесила. Звала ее бабка Чаплыжка к себе ночевать, да Авдотья дома осталась. Теперь уж знала, что все спокойно будет.
А Фома через неделю и вернулся! Исхудавший, бледный, но живой! Шел, говорит, по льду да вдруг угодил в прорубь, насилу выбрался. Пролежал больной у добрых людей в избе, такая горячка его жгла, будто костер в груди горел, а неделю назад жар пропал, силы стали прибавляться, на поправку пошел.
Вспомнила тут Авдотья, как пожелала она ему провалиться да гореть, как на сковородке, заплакала... Ну, да ничего, Фома живой вернулся, и денег привез, и гостинцев. Рассказала ему все Авдотья, Фома так только пожурил, не заругался. Вдвоем они потом и в церковь сходили, вместе Бога благодарили.
Ведь на двоих горе — полгоря, а радость на двоих — две радости!