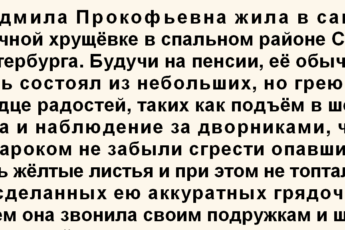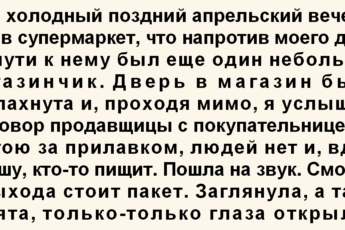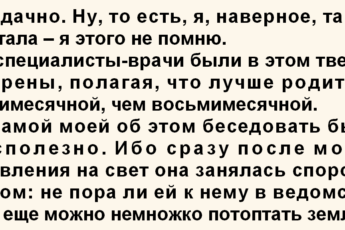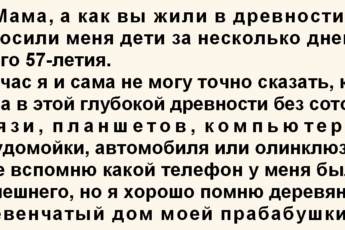Баба Шура готовилась ложиться спать, без конца снимала свои черные юбки и кофты, нанизанные одна на другую, как у цыганок. За ней подглядывала Таня — кудрявая девочка лет восьми, которую та не видела. Оставшись в одной кофте и одной юбке, баба Шура перекрестилась, села на кровать и сказала:
— О-хо-хо, святая мученица Александра, моли Бога о мне.
Танькино любопытство взяло верх над робостью, и она высунулась из укрытия:
— Ба, а кого она мучила-то?
Баба Шура вопроса не поняла, вытаращила на Таньку глаза, но потом усмехнулась:
— Дуреха ты какая, не она мучила, а ее мучили.
— За что?
— За то, что в Бога верила, завтра расскажу, иди спать.
Таня училась во втором классе. Ее особенностью были волосы, не имеющие сколько-нибудь упорядоченного вида: не кудри, а какой-то взрыв на голове. Во всем остальном она была обычной девочкой, это когда всего в меру. После школы она приходила домой, разогревала себе обед и сидела до вечера одна, так как мама работала и приходила довольно поздно, к тому же сильно уставшая. Дома у нее тоже было много дел, и они никак не кончались. Поэтому Таня, выучив уроки, частенько скучала, не зная, чем бы ей заняться, не будешь же одна играть «в магазин» или «больницу».
Вечером, когда они ложились спать, Таня просила маму что-нибудь ей рассказать интересное. Мама начинала, но засыпала на полуслове и Таня ее не будила, понимала — маме очень тяжело.
Однажды в ноябре, когда Таня пришла из школы, мама сказала ей:
— Таня, у нас временно поживет одна бабушка, баба Шура, ей совсем негде жить; тебе будет веселей и мне спокойнее за тебя.
Из комнаты вышла эта самая баба Шура. Танюшка склонила голову набок и уставилась на нее. Бабуля была маленькая и тощая, одета во все черное: черная кофта, черная юбка, черный платок на голове. Лицо было морщинистое, как печеное яблоко, и на нем выделялся большой мясистый нос и нижняя отвислая губа.
Ей отвели маленькую комнату, где помещалась только одна кровать, а на стене висели иконы. До вечера Таня делала вид, что ей не интересно – кто такая баба Шура. Но когда та удалилась в свою спальню, Таня и стала подглядывать.
На следующий день Таня немного осмелела и приступила к расспросам:
— Баба Шура, а где твой муж, дети?
Баба Шура поджала свою нижнюю губу:
— Никакого мужа у меня нет, и не было, я – Христова невеста!
Танюшка сначала обалдела от такой наглости, а потом, представив себе бабу Шуру с большим носом и всю в морщинах в белом платье и фате, а рядом молодого и красивого Иисуса Христа, которого она видела на иконах, прыснула, а потом и вовсе рассмеялась.
Баба Шура обиделась и стала ждать, когда же Танька насмеется, чтобы объяснить ей — какая она глупая девчонка.
— Понимаешь, те девушки, женщины, которые никогда не якшались с мужиками и замужем не были, считаются невестами самого Иисуса Христа — Бога нашего.
— Не якшались — это не целовались, что-ли, никогда?
Баба Шура опустила глаза, вздохнула:
— Вроде того.
Таня сделала вид, что поняла, но, поскольку, мыслить сложными абстрактными категориями она еще не умела, то, как ни старалась, не могла представить бабу Шуру белоснежной невестой, каких она привыкла видеть.
Так они и познакомились. Танька быстро смекнула, что теперь ей не будет так скучно, как раньше.
Когда Таня прибегала из школы, баба Шура кормила ее своим «фирменным» блюдом – картошкой, жареной на воде пополам с растительным маслом, потом они мыли антоновские кислые яблоки, ставили их в духовку. В печи потрескивали дрова, было тепло, за окном лил дождь или шел снег, они садились за стол ждать, когда испекутся яблоки и вести длинные беседы.
Баба Шура, разгладив на столе кухонную тряпку из тонкой мешковины и, положив на нее свои коричневые морщинистые руки, начинала рассказ. А Таня, переняв у нее эту привычку, тоже разглаживала тряпку из такой же мешковины, складывала на нее свои маленькие белые ручки и слушала.
— Когда Пилат разрешил солдатам бичевать Иисуса, они решили сыграть с ним в царя. Одели его в красную шутовскую одежду, а на голову — венок колючий из терна. А в руки ему дали палку и становились перед ним на колени, насмехались и говорили: радуйся, Царь Иудейский, и били его по щекам, – рассказывала баба Шура и по ее морщинистым щекам текли слезы, и она вытирала щеки и свой большой нос мятым клетчатым платком, который ловко доставала из рукава.
— За что они его били, ба?
— Они не верили что он — сын Божий. Потому и издевались.
Потом они подкладывали в печку дров, доставали яблоки, посыпали их сахаром и ели.
Случались у них и недоразумения. Тогда они горячились и «дулись» друг на друга.
Например, баба Шура говорила:
— Бог един, но троичен в лицах.
— Как Змей Горыныч? — уточняла Танька.
От такого богохульства Баба Шура чуть в обморок не падала, махала руками, крестила себя и заодно Таньку.
Баба Шура была очень набожной, хорошо знала Евангелие, часто ходила в церковь и приходила оттуда умиротворенная. Но, несмотря на свою набожность, она была, во-первых, какая-то хулиганистая бабуля, а, во-вторых, очень любила осуждать людей и рассказывать об этом Тане, как самому благодарному слушателю. Танька подробно знала, с какими женщинами путается приходской священник Петр.
Правда, значение слова «путается» Таня не понимала, но по поджатым Шуриным губам догадывалась, что это грех, такой-же, как и женщинам якшаться с мужиками. У бабы Шуры в ее рассказах все путались. Помимо священника, путался ее бывший хозяин, у которого она жила в няньках, пока его сын не подрос и бабу Шуру не выставили на улицу. Путалась ее родная сестра, которая, мало того, что путалась, да еще присвоила себе весь родительский дом, а бабу Шуру и на порог не пустила. Поэтому и жила баба Шура всегда у чужих людей.
Кроме разговоров, были у Тани и бабы Шуры и еще развлечения. Увидев из окна на кухне, что их соседи — Глаша и Костя — напились и назревает скандал, баба Шура бегом неслась в комнату и звала Таню «смотреть концерт». Тогда они вместе прилипали к окну и, толкая друг друга в бока, смеялись до упаду.
Вот Глаша заходит в дверь с сумкой, а вот из окна в грязь вылетает кусок мяса, потом открывается дверь и из нее, с ускорением от данного ей пинка, вылетает Глаша. Потом Глаша идет поднимать мясо и с ним заходит в дверь, вот мясо вылетает опять в окно, а Глаша — в дверь. И так продолжается довольно долго, пока Глаша не понимает, что надо сменить тактику. Тогда она забрасывает мясо, уже мало похожее на мясо, в дверь, а сама уходит во двор отсыпаться с курами.
Подслушивать других соседей, которые жили через стенку, тоже им нравилось. Заслышав ругань за стеной, они бежали на кухню за большими эмалированными кружками и прислоняли их к стене и к уху. Баба Шура слышала плохо, поэтому все время толкала Таньку и спрашивала:
— Что, что они говорят-то?
Таня вся превращалась в слух и переводила:
— Дед: ты... мат на букву «б»... пока я был на войне, гуляла... мат на букву «б». Бабка: козел ты... мат на букву «ё», а как бы я с четырьмя детьми выжила бы? Дед: лучше бы ты... мат на букву «б» сдохла. Бабка: ну это... мат на букву «х» тебе, козел... мат на букву «ё».
Пересказав все бабе Шуре, они валились на Шурину кровать и начинали хохотать, дрыгая ногами. Потом, насмеявшись, а после, перекрестившись на иконы, баба Шура говорила Тане:
— Позовешь, когда дед начнет играть «Страдания» на гармошке.
Слушать дедовы «Страдания» тоже входило в их развлекательную программу.
А вечером баба Шура и Таня наперебой пересказывали все маме. Мама качала головой и выговаривала им — не очень они хорошо, дескать, поступают, подслушивая соседскую ругань, да еще и с матом.
— А мы сами матом не ругаемся, — горячилась Танька, я только говорю бабе Шуре на какую букву был мат.
Баба Шура согласно кивала головой. Переубедить их маме не удавалось, да и некогда было. А сами они считали — так развлекаться вполне допустимо и, главное, весело. Матом ругаться — грех, но ведь этот грех-то на бабке с дедом.
Их единство частенько перемежалось ссорами. Баба Шура, не выдержав Танькиной бестолковости, часто называла ее «неудельная» за то, что она не дается заплести ей косички, не может, как следует, пришить пуговицу или никак не научиться вязать носки. После таких обвинений в неудельности, Таня упирала руки в бока, щурила глаза и протяжно говорила:
— А вот в Библ-и-и-и сказано, что нельзя других судить, только Бог может судить, а ты-то ведь су-у-у-удишь?
Баба Шура критику считала справедливой: начинала креститься, шептать про себя молитвы и тяжело вздыхать.
Однажды Таня грустно сказала бабе Шуре, уходя в школу:
— Сегодня контрольная по матике, а я ничего не понимает в ней.
— Иди, не бойся, я помолюсь за тебя, все будет хорошо, — очень серьезно и авторитетно заявила баба Шура.
И Танька счастливая убежала в школу. Но пришла она из школы чернее тучи, и, не глядя на бабу Шуру, кинула портфель в угол:
— Ты, небось, весь лоб себе расшибла, моли-и-и-лась! Только я почему-то двойку получила.
Баба Шура сильно покраснела, видимо, забыла помолиться за Таньку, либо Господь раскусил их хитрый сговор.
Еще как-то Таня сильно обиделась на бабу Шуру из-за петуха. Однажды она, в накинутом на плечи красном пальто, и шапке, возвращалась из дворового туалета, а на нее стал набрасываться их петух. Таня сначала закрывала лицо руками, потом бросилась бежать, увязая в грязи и теряя на поле битвы пальто, калоши и шапку, которые летели в взбесившегося петуха.
А баба Шура при этом стояла на пороге и хохотала, показывая на Таню пальцем. Прямо умирала со смеху. Таня тогда с ней не стала разговаривать до самого вечера. Но потом баба Шура позвала ее печь яблоки, пообещав рассказать, в очередной раз, как распяли Христа и как он вознесся на небо, и Таня обиду забыла.
Она, вообще, долго не могла обижаться на бабу Шуру и все ей прощала за то, что та всегда, когда Таня ложилась спать, подходила к ней, крестила и говорила:
— Господи, спаси и сохрани рабу твою Татиану.
Так они и жили. Наступило лето. Как-то баба Шура по ошибке вылила курам из ведра отраву для колорадских жуков. И с ужасом они наблюдали, как попив этой водички, куры, одна за другой, падали, как подкошенные, кверху лапами. Когда пришла с работы мама и увидела дохлых кур, она выслушала заикающуюся бабу Шуру и ничего не сказала. Но лучше бы она их с Танькой отругала, а так им было еще хуже.
Бабе Шуре было плохо от своей оплошности, а Тане было жалко бабу Шуру. Она видела, как Шура вздыхала, суетилась и все старалась что-то еще дополнить в своем рассказе маме, а та все отмахивалась от нее. Они жили скромно и потеря всех кур разом являлась серьезным уроном их хозяйству.
В конце концов, расстроенная баба Шура ушла в свою комнатенку. Таня подсела рядом и, вздохнув, изрекла:
— Какая же ты, баба Шура, неудельная.
От этих слов Шура заплакала. За ней, не выдержав накала страстей, заревела Танька. Зашла мама, посмотрела на них:
— Сидят, ревут тут, неудельные. Ну, хватит, пойдемте, я гостинцы вам принесла.
Они вытерлись: баба Шура — большим клетчатым платком из рукава, а Таня – просто рукавом и пошли за ней. Мама стала разворачивать шуршащую бумагу, в которой лежали странные фрукты или овощи желто-зеленого цвета, длинные, заостренные с одного конца.
— Вот, бананы называются, — сказала мама, — ешьте. И показала, как их надо чистить. Покушав банан, баба Шура выдала:
— Мыло.
— Нет, — сказала Танька, — вкусно.
И они начали спорить: мыло или вкусно, забыв про дохлых кур, которых, вздохнув последний раз, ушла собирать в мешок мать.
Так прошло четыре года. Тане было двенадцать лет, когда мама сказала ей:
— Знаешь, а бабе Шуре горисполком выделил мизерную комнату в полуподвальном помещении с печкой и баба Шура уходит туда жить. — Посмотрев на враз поникшую Таню, добавила: — Она давно хотела иметь свой угол. Ты не переживай, мы будем ходить к ней в гости.
Когда баба Шура уехала, а мама ушла на работу, Таня села на широкий подоконник у окна, которое выходило в их двор, и долго плакала вместе с дождем, который лил и лил из темно-свинцового неба. Она впервые чувствовала себя несчастной. Топилась печь, но Тане не хотелось печь яблоки. Ведь не с кем их будет есть, посыпая сахаром.
В гости к бабе Шуре они с мамой сходили всего два раза. Первый раз они зашли к ней в гости, когда Шура была здорова и весела. Она накормила их своей картошкой на воде пополам с маслом, напоила жиденьким чаем, много расспрашивала и рассказывала сама.
А во второй раз они были у нее, когда маме передали, что баба Шура умирает.
Когда они, пригнувшись, вошли в ее мизерную комнатку, Шура лежала на кровати. Света не было, в углу перед иконами горела лампадка. Шура была очень маленькая, бледная. На лице, по-прежнему, выделялся только большой мясистый нос и нижняя губа. Мама села к ней на кровать. Шура открыла глаза и еле слышно сказала:
— Отойду, Граня, я сегодня ко Господу.
Мама взяла ее за руку:
— Может, поправишься еще, давай я тебе печку затоплю, поешь что-нибудь.
Но баба Шура отрицательно качнула головой, посмотрела в последний раз на Таню и прикрыла глаза.
Когда они шли домой, валил хлопьями мокрый снег. Он ложился Тане на лицо и таял, поэтому никто не видел, что она плачет, даже мама. Она шла и вспоминала, как смеялась баба Шура, когда Танька убегала от петуха, и как вместе они заливались смехом, подслушивая соседей: бабку Фросю и деда Костю, как она сердилась на нее, Таню, и называла неудельной, как рассказывала ей о Боге. А еще уходила, жившая в Таниной душе, надежда, что помолившись перед сном, баба Шура всегда добавляла: Господи, спаси и сохрани рабу твою Татиану.
— Царствие тебе небесное, баба Шура, пусть жених твой небесный простит тебе все грехи твои, — вслух сказала Таня, подходя к дому и вытирая рукавичкой мокрое лицо.
— Что? — не расслышала мама
— Это я так, сама с собой...

Автор: Галина Ермакова