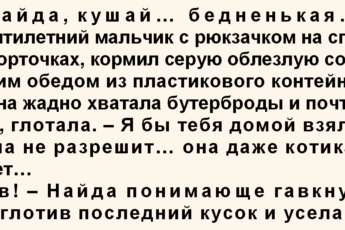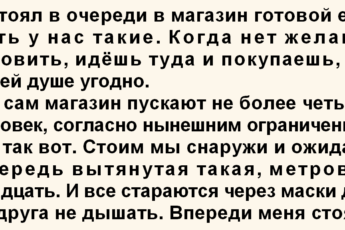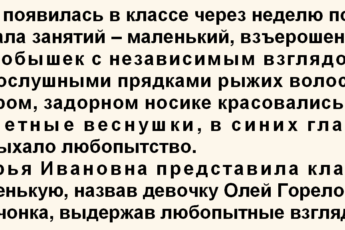Никогда не знаешь, с какого боку тебя догонит история рода, прошлое твоей семьи. Входом в секретный портал может стать соленый огурец!
Сплю я себе, никого не трогаю, тут звонит бабушка и говорит строго:
— Бери ручку и пиши.
Я вскакиваю:
— Что случилось?
— Пиши, как огурцы консервировать.
Смотрю на часы — рань несусветная. Я говорю:
— Ба, зачем огурцы?
— А если я помру, откуда ты будешь знать, как их солить?
Я беру ручку, зеваю и послушно записываю, как солить огурцы с чесноком и смородиной.
Бабушка говорит:
— Теперь пиши, как солить помидоры.
Вздыхаю и записываю про помидоры.
— Ты помирать-то погоди, лето скоро, на дачу поедешь, — говорю.
— В гробу я видала вашу дачу! Мать твоя там цветы сажает вместо капусты.
— Мне про капусту что-нибудь записать? А то вдруг помрешь, я не буду знать как капусту выращивать.
— Про капусту тебе ничего знать не надо.
— Ну слава богу, — соглашаюсь я и хочу уже попрощаться, чтобы почистить зубы, выпить кофе, проверить мейлы… И тут бабушка говорит:
— А мамка моя была одноглазой и ходила с котомкой по деревням…
И я забыла не то что про кофе, забыла где я.
Три сестры
Прабабка моя была одноглазой и путешествовала с котомкой по деревням. Когда в детстве про нее рассказывали, я представляла себе лихую пиратку с черной перевязью на глазу, которая смело ходит, куда ей вздумается. А потом увидела фотографию: худая женщина с суровым лицом, в платке, завязанном по-деревенски под подбородком, один глаз открыт, на другой натянуто веко. Это лицо было похоже на кору засохшего дерева, никаких эмоций, будто все они вытекли через глаз.
Глаз она потеряла не в битвах за сокровища, а во время невинных деревенских забав: зимой все катались на салазках с горы, а вверх их тащили, подцепляя длинной палкой с железным крюком. Этим крюком какой-то мальчишка глаз ей случайно и выдернул.
Будь она в городе одноглазой, осталась бы в старых девах, но в деревне любят не за глаза, а за руки, так что муж у нее был, а после него был еще один — не муж. От этих двух мужчин родились три дочери, и это была беда хуже полуслепоты: земельные наделы давались только на мальчиков. Жили впроголодь, вегетарианцами поневоле. Во время коллективизации, когда в доме не оставалось ни морковки, ни листика капусты, прабабка отправлялась побираться по деревням и, потупив единственный глаз, засовывала в котомку и чужую еду, и свой позор.
Старшая дочь Александра получилась высокой как жердь, у нее был склочный характер, муж, который погиб на войне, трое детей, и она никогда не покидала родной деревни.
Среднюю дочь одарили женственным именем Ксения, мужским лицом и фигурой как у крепкого пенька. Она прожила жизнь безмужней и бездетной, работала в Москве на мужском заводе, спала на жесткой, железной кровати в коммуналке, а из культурных развлечений любила походы к нам в гости на городской оливье.
Когда подошла пенсия, завод отблагодарил ее часами, и оставалось ей только тикать в одиночестве, без поддержки трудового коллектива, но неожиданно вышла замуж за красивого вдовца. Смотрелись они — как изящная греческая ваза и грубо срубленный языческий идол на одной полке. Ксения надеялась до смерти делить с ним и одеяло, и борщ, но красавец взял, да и помер как последний подлец. Когда она стала совсем старенькой, бабушка с дедом взяли ее к себе вместе с деревянными часами и поселили в комнате с видом на индустриальный пейзаж. Там она и умерла так тихо, словно от засохшей ветки отвалился винтик.
Моя бабушка — Мария — была самой младшей, самой живой по характеру и кровь с молоком. Мать она боялась и любила. Когда та уходила в поле, маленькая бабушка играла в деревенские игры по дому: мела земляной пол, отскабливала кастрюли, а наигравшись, садилась на пороге и плакала от страха, что мама долго не приходит. Став тинейджером, устроилась в швейную артель и превратилась в очень ловкую и терпеливую вязальщицу. Ее руки летали, а на скатертях и сорочках появлялись белые кружевные чудеса.
— Меня даже за них награждали, — сказала бабушка хвастливо. — Материю разную давали, и в цветок давали, и в клетку бордову давали, и платье один раз дали голубое, ситцевое, не по-деревенски шитое, такое-краси-ивое, я его так любила.
Пулей не пробьешь
В незабываемом голубом платье и легендарных галошах с белыми носочками, бабушка гордо ходила по уличной грязи в соседнюю деревню — тусоваться под гармошку. Она была видной красавицей по деревенским меркам — пышногрудой, пышноволосой, и женихов у нее было столько, что «пулей не пробьешь». За одного из непробиваемых, высокого, с широкоплечим именем Александр, она вышла замуж и ушла жить в его семью «далеко-далеко, аж за сорок километров». В той семье ее полюбили и называли Марусенька. Полгода она прожила со своим красавцем, а потом началась война, и пулей его как раз и пробило. Бабушке было 17 лет.
Мужчин в деревне не осталось, убирать урожай было надо, и она стала бригадиром, начальником сопливых мальчишек в возрасте от 10 до 16. В 41-м, когда немцы подходили к Москве, бабушка вместе со всеми долбила окопы в мерзлой земле, на той же земле и спали вповалку, греясь друг о друга, ели сухари, запивая водой. Вода в кружке застывала, и приходилось сухарем продалбливать ледяную корочку, чтобы размочить его и съесть.
После войны свекр со свекровью не хотели ее отпускать, они ее в душе удочерили, да и помощница она была хорошая, но перечить не стали, когда юная вдова решила вернуться к своим. Погрузили ее в повозку вместе с приданым и трудоднями — бумажкой с галочками, где отмечено, сколько дней человек отработал. Эти галочки были деревенской валютой, на которую можно было приобрести то, что не росло из земли, денег в деревне не водилось. С накопленными галочками и неизношенными наволочками она вернулась к матери с сестрой, а от первого мужа ни фотки не осталось, ни письма, только имя.
— Бабуль, а ты деда любила?
— Еще чего!
— А как же тогда?
— Что как?
— Ну, вы же как-то поженились, то се.
— Не было никакого то се.
— Ну он же тебе понравился чем-то?
Потерянное письмо
Дед не пользовался спросом как мужчина, поскольку с младенчества был хромым: родители, уходя в поле работать, привязывали его в доме веревкой к столбу, чтоб не убежал, а возле столба была выемка, куда он однажды попал своей маленькой ножкой , сломал, и она срослась неправильно. Поэтому на гулянках по воскресеньям юный дед играл на гармошке, а остальные вокруг танцевали с девушками. И вот ему представился шанс стать престижным женихом.
Колхозу стал нужен счетовод, а в деревне это — как в городе — директор банка. Мужчины с нормальными ногами были заняты на полевых позициях, вот и выбрали деда. Дали повозку, запрягли коня. И дедушка поехал в город — учить цифры. Некоторые он уже знал, поскольку к своим восемнадцати закончил три класса, но надо было выучить их побольше.
В общем, он ехал себе в повозке и считал ворон, как бы тренируясь для будущей карьеры, а лошадь тоже загляделась куда-то по своим лошадиным причинам, ну, и упала в овраг. И тоже сломала ногу. И дедушка как бы вновь охромел, но уже посредством коня. Доковылял до деревни, а ему сказали: «Иди, Коль, домой, без тебя посчитаем».
На войну деда не призвали как калеку, и он остался живым.
Оказалось, быть живым и есть преимущество. Перебрался в Москву вместе с отцом, братом и сестрой, устроился на завод, стал городским жителем. Вдруг сестра эта возьми и соври деду, мол, Маруся Астахова тебе письмо написала, а я потеряла письмо. А он поверил, да и сам написал письмо. Любовное. Звучало оно, если верить бабушке, так: «Маша, тут есть картошка, и есть, где спать. Приезжай. Коля». В общем-то, по делу все написал, за словом «люблю» голодная бабушка бы не поехала.
Колю из соседней деревни она не вспомнила, но живых несемейных в деревне не осталось, а воспитывать детей сестры, когда хотелось своих, было тяжко. Бабушка сказала: «Пойду замуж за любого, лишь бы не за хромого». Все поклялись, что с ногами у жениха все в порядке.
Бабушка отправилась в Москву, на ее окраину, уткнулась в длинный, грязный барак и смутно знакомого мужчину. Как раз хромого. Ноги у нее подкосились, а сил и денег на обратный путь не осталось. Так от бессилья замуж и вышла.
Пень и вешалка
В бараке обитало семей двадцать, кухня одна на всех , вместо стен — шторы. В одной из таких комнат, огороженных материей, бабушка провела свой «медовый месяц». «Там кровать железная стояла, я подушку подняла, а там клопы».
После меда с клопами начались будни: бабушка на всех стирала-готовила, работала на заводе и воспитывала двух дочерей.
«Как же они надо мной издевались! То залезли под стол и скатерть подожгли, а в бараке стен-то нет, одни тряпки, все могли сгореть живьем, то на железную дорогу уперли, а то с работы раз прихожу, а они сидят на полу и ножницами вырезают цветы из моего праздничного платья, а оно у меня было одно. Но учиться твоя мать любила».
Училась мама со страстью, и даже четыре урока в день не могли эту страсть утолить. Вернувшись из школы, отлавливала всех дошкольников из барака, которых удавалось поймать, усаживала на лестницу амфитеатром и начинала учить письму и арифметике. Характер у мамы был непреклонный, так что выбора у детей не было.
Когда дочери подросли, бабушке дали отдельную квартиру на Преображенке — две маленькие смежные комнаты, пятый этаж без лифта. Бабушка в ней почувствовала себя богачкой, и началась шикарная по ее меркам жизнь. Всю эту жизнь бабушка с дедом ругалась душа в душу, она ему в сердцах: «Пень», он ей: «Старая вешалка». Разные бывают ласки, у бабушки с дедушкой были вот такие.
— А все же с дедом тебе повезло, у него, вон, руки золотые, дачу построил.
— Да что он там построил-то? Крыша течет, а то говорю: «Коль, чего сиднем сидишь, кран-то почини», он чинил-чинил и дочинился — вообще без воды остались, тьфу на него.
Все мое детство во дворе на Преображенке стояла беседка, в которой сплетничали бабушки, песочница, в которой ковырялась малышня, горка, с которой катались взрослые дети, и качели, на которых откаталось много поколений, и все это королевство построил мой дед. А зимой катал меня на санках, которые тоже делал своими руками, я запрягала его в прыгалки, натягивала потуже и кричала: «Но-о-о, моя хромая лошадка».
Иногда , сказав кодовую фразу: «Схожу за гаражи» — дед исчезал, а из-за гаражей выходил уже незнакомый дедушка, похожий на моего, но не он. Это легко проверялось: моего можно было схватить за подтяжки, чтобы потом отпустить со смешным, хлюпающим звуком, а с чужим так делать было нельзя. Глаза его становились мутными как в луже, и он говорил много непонятных слов.
Бабушка тоже иногда ругалась непонятными словами, но придумывала их сама. «Что ты там наворзопила?» — кричала она, увидев, что я разлила компот по столу. Меня это смешило. Полотенце у нее всегда было мужского рода, единственного числа: полотенец. Один. Висит. В ванной. Это тоже смешило.
Вопящая справедливость
Больше всего смешило и бесило, что, если ты весишь меньше ста килограммов, то с тобой что-то не в порядке, так что главная ее заслуга перед отечеством была в засовывании в детей полезной еды. Со мной эта процедура проходила так: дед играл на балалайке, бабушка несла околесицу, а когда я открывала от удивления рот, мама засовывала ложку. Дед однажды заступил на бабушкину вахту, сварганил грибной супчик и, по семейной легенде, меня отравил. Я этого не помню, но, кажется, осталась жив.
— А помнишь, как дед ручки любил?
— Тырить он их любил, это точно.
Перед шариковой ручкой дед не мог устоять как перед рюмочкой водки, хотя ничего никогда не писал. Видя ее в моих руках, он говорил: «Дай-ка, гляну» — и через мгновенье ручка навсегда растворялась в кармане его штанов. Он мухлевал, играя в карты с бабушкой, и мухлевал, играя в шашки со мной, чем доводил нас обеих до полного бешенства, а на нашу вопящую справедливость махал рукой и посмеивался. Под старость он страстно полюбил черные очки и кепки, и деда всегда было очень легко обрадовать: любая вещь из джентльменского набора «кепка, ручка, черные очки» делала его счастливым.
Когда дед умер, бабушка все время повторяла: «Зачем он к калитке пошел?» — будто, если бы пошел к сараю или холодильнику, то его никогда не хватил бы инсульт. Она по нему очень скучала и молилась, чтобы тот забрал ее к себе.
— Ну ладно, мне надо еще в сберкассу, ты про огурцы все поняла?
— Все поняла и про помидоры все поняла.
— Если не поняла, перезвони, я часа через два буду дома. И дочь свою получше корми, а то у нее вместо попы один адрес.
Умерла бабушка через пару лет после того, как я записала рецепт волшебных овощей, так что она успела их даже разок попробовать и много разков поругать.
Однажды мама сказала буднично и жутко: «Я ехала с продуктами, поговорила с ней от метро, а когда приехала, уже все». И весь наш привычный мир рухнул…
Через три дня ее отпевали в какой-то мрачной комнате при больнице, где стояли пять гробов, как шпалы. Я прошла, глядя на чужих мертвецов, и, наконец, узнала бабушку. У нее было такое выражение лица, будто она сейчас встанет и всем нам наваляет под первое число. И это успокоило. Если бабушка недовольна, значит, все в порядке.
Такие дела...

Автор: Виктория Бугаева