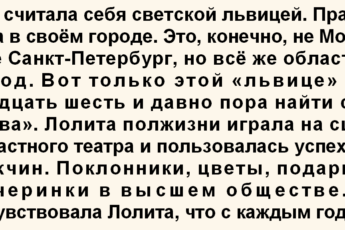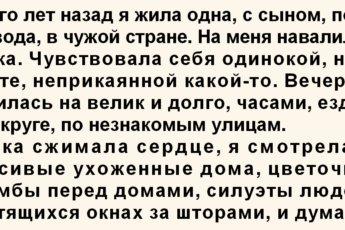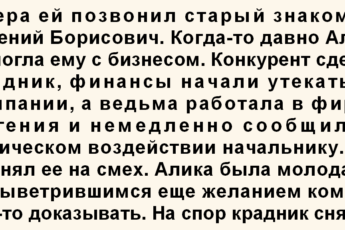Анну сегодня вымыли и положили в кровать, заправленную выстиранной печной занавеской и одеялом под другой тряпицей, которую она признать не могла, то ли с горничных дверей, то ли с полатей. Ольга еще в прошлую субботу сказала, что все постельное кончилось, истерли в стиралке, покрути-ка через день. Посыкнулась принести свое, только Анна тяжело махнула рукой: «Не надо!».
Ольга хоть и родная племянница, только не разорваться бабенке, и работа, и ребятишки, и мужик пристрастился бражку ставить, всегда навеселе, а управа во дворе на ум не идет. Анна уже не горевала даже, что своих детей не родила, война оженила, видно, ее суженого, подходили ребята с фронтов, только не к ней. Сама себе признавалась, что не красавица, а то, что работящая – это в девке оценили бы потом, при семейной жизни.
Когда боли утихали, уходили куда-то, Анна вспоминала первое послевоенное лето, когда тихая, почти траурная деревня вздрогнула от множества мужских голосов, от разухабистой «тальянки», выводящей почти забытую «Подгорную», от радостных частушек молодых девок и вдов, на кого положил глаз демобилизованный холостяк. Анна сидела с подружкой на бревнышках, только та время от времени срывалась на круг, потому что перед ней топтался уставший от браги и пляски парень, приглашая к пляске. Пройтись вприсядку или иное коленце выкинуть он уже не мог.
Памятное было лето. Вернулся из Германии Федя Фаркоп. Она как сейчас его помнит: усатый, вся грудь в медалях, сапоги хромовые тоскующей гармошкой сморщены. И наглый. После вечерок догнал ее, подхватил под руку:
– Аню́шка, ты почто одна-то? Одной, поди, страшно. Давай, я тебя обниму.
Прижал к себе, а она и сердце поймать не может. Двадцать два годика, а не обнята, не целована. То не в счет, что ребятишек пятнадцатилетних совращали, тискали, к себе прижимали, до дури доходили, а потом гнали их, чтобы, не дай бог, до сладкого греха не упасть. А тут мужик, груди мнет, с ума сводит, шепчет, аскид, на ушко:
– Пошли, Анюшка, в баню, нынче суббота. Бани теплые.
Что там говорить – жаркая была баня… Федор сел на лавку, дрожащими руками поднес спичку к папиросе. Анна встала:
– Выдь на минутку, я обмоюсь.
Шли молча до Анниного переулка, тут Федор остановился:
– На деревне про баню не надо разговоров.
– Вот как!? А зачем ты на кофтенке все пуговички обобрал, щупался, в ухо пел? Заскочил, как петух, и обратно на седало? Ох, дура я дура, неотесанная! Был бы жив тятька, он бы тебя оженил.
– Анюшка, ты чо на меня? Я тебе ничего не обещал, но, если в замуж не возьмут, буду приходить. Мать-то жива?
– Слава богу!
– Неловко при матери-то...
– Она на печке спит, да и глухая совсем, – соврала Анна и заплакала: обрекла себя в ту минуту на вечное одиночество…
Слух прошел, что с понедельника все на сенокос. Неделю шли дожди, да неделю солнце за день ни на минутку не пряталось, все старалось виновато подтянуть травы, сотворить семена в каждой, чтобы, осыпавшись, они ожили будущей весной. Травы дуром дурят, старики говорят, что в Дикуше и на Зыбунах такого давно не бывало, чтобы пешему не пройти. Вечером по всей деревне стук молоточков: отбивают, оттягивают жало литовок, чтобы на покосе только легонько брусочком пройти с обех сторон, и опять коси.
Литовкой бриться можно, рукавом от старой фуфайки одевают литовку, бечевкой перевязывают, чтобы не порезать кого и чтобы ненароком не притупилась в дороге. Мужние жены без горя, хозяин и литовочку подберет, и посадит на литовище, чтобы по руке и по росту. Анна пошла к крестному Максиму Хромому, он уж своей Марье наладил, вон, в углу стоит. Максим встретил с улыбкой, принял литовку, покрутил-повертел, выматерился:
– А Фаркоп-то выболел бы, если бы отбил да насадил, как следно быть? Ладно, не красней, дошли и до меня слухи. Жениться не звал?
– Нет.
– Если бы в старые годы – на куртал бы его сводили братья с отцом, вставили ума чуток. А нынче – Гитлер твоего жениха устосал, без соборованья, а Сталин разрешил мужикам ходить по бабам, солдатиков да доярочек ему делать, а помощи никакой, – ворчал Максим, разобрав Аннину литовку по частям.
– Я тебе черенок новый поставлю, этот подопрел, подведет среди дня. У меня на номер меньше есть литовка, с этой тебе к обеду воздуха не станет хватать.
Анна перебила:
– Не надо, крестный, маленькой мне норму не вытянуть.
– А сколько дали?
– Сказывают, по пятьдесят соток.
Максим выругался:
– В правленье совсем сшалели, или как? Да по такой траве полгектара только трактором. Посмотрю завтре, ихние бабы придут или в холодке отсидятся, а то, не пуще того, в председательской кошевке в лес по ягоды махнут. Смотрел я вчерася по Пелевинской дороге – густо ягод, хоть лопатой сгребай. Хотел съездить межу делком, да Вася Моряк утром кнутовищем с вершны в окошко стукнул: «Весь день литовки и грабли налаживать, а завтре с молоточком и наковаленкой быть у Коровьей Падьи, оттуда, стало быть, начнете».
Максим говорил и делал свою работу. На черенке выдолбил долотцом углубление, чтобы замок литовки закрепить, надел кольцо туго-натуго, из свежей вицы согнул новую ручку, стянул ее тонким кожаным ремешком. Спросил, есть ли оселок, порылся в ящичке, достал мелкий оселок. Анна взяла в руки литовку, отошла в сторонку, сделала несколько замахов – удобно, ловко.
– Спасибо, крестный.
– Айда, бласловясь!
* * *
Пастухам было велено выгонять коров пораньше, они чуть свет – уже щелкали длинными кнутами своими, пугая собак и маленьких телятишек. Вся деревня на ногах, с литовками на плечах сходятся ко дворам возчиков, а те уже запрягли в телеги и фургоны лошадей, поправляют сбрую. Филя Смоктунок прилюдно начал мазать дегтем колесные ступицы, мужики с матерками помогали, поднимая телегу. Филя молча сносил обиды, потому что виноват, вчера прогулял, уж лучше здесь снести позор, чем среди дороги, когда безжалостно засвистят ступицы, и матерков будет еще больше.
Подбегали запыхавшиеся молодухи, проспавшие зорьку и догонявшие со своими коровами уходящий в луга табун. Наконец, тронулись, и к выезду за околицу уже целый обоз выстроился, все собрались, Вася Моряк, только что вернувшийся со службы на Тихоокеанском флоте, проехал вдоль колонны, всех пересчитал и рысью поспешил подобрать место для стана.
Все собрались в круг, Анна огляделась: не меньше сотни человек. Бригадир вскочил на ближайшую телегу и крикнул:
– Товарищи! Сегодня у нас праздник – начало сенокоса.
В толпе громко засмеялись:
– Праздник!
– Семь потов за него!
– Бригадир, ты лучше про норму скажи!
Вася Моряк чуть стушевался, но быстро нашелся:
– Да, праздник, потому что от сегодняшнего дня зависит, будет ли скот с кормами, не придется ли поднимать коров весной на веревках, как в былые годы. А норма такая: пятьдесят соток для женщин и шестьдесят для мужиков. Сразу: кто перевыполнит хоть на пять соток, ставлю два трудодня.
«Ой, да хоть десять, все равно по осени на них ничего не выпадет, только бы должной не остаться», – подумала Анна и подошла к таким же одиночкам, как и сама, им вместе сподручней.
Катя Заварухина самая крепкая, пошла передом, за ней Валентина Ляжина, Прасковья Апрошина, и Анна встала вслед. Первую ручку шли долго, все приспосабливались, надо одинаковый шаг установить, чтобы пятки друг дружке не порезать, не отставать, но и не забегать вперед. Тогда и дыханье установится, и сердце перестанет выскакивать.
Бригадир подъехал на своем Хулигане без седла, рубаха вся мокрая, чуб из-под бескозырки сосулькой висит. Женщины смеются:
– Тебя, Иваныч, не повариха ли холодной водой окатила, чтобы не яровал?
– Нет, родные мои, я с мужиками в одном строю, литовка у меня – девятый номер. Не мог же я опозорить Краснознаменный Тихоокеанский флот, намахался так, что сейчас только супу чашку и в Тихий Омут нырнуть. Тут не заяруешь!
– Смотри, не уплыви, а то и трудодни начислять некому будет, – смеются женщины.
Анна улыбнулась этим воспоминаниям. Действительно, какая артельная это работа – сенокос, здесь каждого видно, ни за кого не спрячешься, но за слабинку, за ошибку никто не осудит, не поднимет на смех.
Потом из больших эмалированных чашек (одна на пятерых) хлебали густой суп с бараниной, баранчика специально для косарей выписало правление колхоза. И хлеб напекла Аксинья Петровна – любо поглядеть. Калачи большие, высокие, мягкие, наломали их ломтями и кинули прямо на средину артельного стола – ешь, сколь хочешь.
В тот день они выполнили норму, хотя трава тяжелая, овсяница колос затвердила, визиль вяжется на литовку. Но сено хорошее будет, если без дождей сумеют сметать.
* * *
Лошадей Анна не любила, не то, чтобы боялась, а сторонилась и дивилась своим подружкам, которые получили по паре коней и по фургону, летом возили зерно на элеватор, лес, кирпичи на стройку, а как снег падет – одна работа: пара саней с широкими крыльями, и за сеном. Опять надо парой, одна со стога подает, другая на санях раскладывает, чтобы три центнера вошло и чтобы воз не развалился. Сложили воз, бастрыком его зажали, и так все четыре. К вечеру, если все нормально, дотянутся до сеновала, перекидают сено в большую скирду, тогда можно коней распрягать и домой.
Уговорили Анну, взяла она пару смиреных кобыл, закрепили ее за молоканкой обрат телятам возить и сливки в соседнее село на маслозавод.
Анна хорошо помнит тот день, все шло наперекосяк. Сначала Пегуха никак не хотела заходить под упряжь, потом на хомуте порвалась супонь, а на выезде с конного двора фургон зацепился колесом за воротину и своротил ее. Анна понужнула коней, чтобы скрыться, пока никто не видел ее греха.
На молоканке поставила шесть фляг со сливками и тронулась через мосток в сторону Шадринки, где сдавала опломбированные фляги на маслозавод. Ее там знали, угощали хлебом с маслом, холодной закваской. Она уже представляла, как сдаст фляги, будет пить чай с белым хлебом, накрытым толстым куском холодного масла. Вдруг кони дернулись, встали на дыбы и метнулись в сторону. Анна видела, что через дорогу перемахнул огромный лось, уперлась ногами в поперечину и со всей силой натянула вожжи. Но кони дико неслись прямо по кустам, потом фургон попал в яму, опрокинулся, и Анна потеряла сознание.
Ее нашли к вечеру, увезли в больницу, с неделю ставили уколы, но голова болела. Врач сказал, что это пройдет со временем, и выписал на работу. Дома ее уже ждали. Колхоз предъявил иск за два с лишним центнера испорченных сливок. Бухгалтер так и сказал: либо возмещай убыток, либо колхоз подает в суд. А чем возмещать? Корову продать, и то не хватит, а без коровы совсем погибель. Нашлись люди, ходили в правленье, просили списать за счет колхоза, только председатель и слушать не стал. Анне так и сказали:
– Он с производства направлен колхоз поднимать, ему наше горе непонятное.
Суд хотели провести в колхозе, только убоялись, что народ может под защиту взять подсудимую, Анну вызвали в район. Сидела она на боковой скамеечке, какие-то люди – ни единого знакомого лица. Она помнит, как ее это испугало: засудят, и заступиться некому. Какой-то человек подошел, шепнул тихонько:
– Приготовься, на полтора года поедешь в леспромхоз северный. Мне судья сказал.
Потом этот человек, которого объявили адвокатом, долго говорит про особую ценность социалистической и колхозной собственности, к которой некоторые граждане (он указал на Анну) относятся преступно халатно и заслуживают сурового наказания. Говорил еще один, в мундире, все грозил каким-то капиталистам, и тоже про народное добро, на которое посягнула подсудимая.
– Прошу суд, учитывая серьезность преступления и в назидание другим разгильдяям назначить подсудимой…
Анну не отпустили домой, две ночи ночевала в милиции, потом увезли на станцию и посадили в вагон, полный женщин. Никогда не бывавшая дальше своей деревни, Анна приткнулась с краешка нар, положив на колени узелок с парой исподнего. Она до сих пор помнит невысокую толстую женщину с воспаленными глазами, которая подошла, вырвала узелок, спросила:
– Что тут у тебя?
– Рейтузы да рубаха, еще рукотерт.
Женщина брезгливо сунула узел обратно. Подошла еще одна, постарше, Анне сразу показалось, что с добрым лицом.
– Ты из деревни? Я так и поняла. За что тебя?
– Лошади понесли, фургон перевернулся, а там фляги со сливками…
– Перебирайся ко мне ближе, нас тут от самой Москвы. А ту зэчку мы приструним. Это нарушение – собрали вместе уголовников и первосудок.
– Ты, видать, грамотная?
– Немножко. Я инженер, работала в лаборатории, ночью пожар, а я последняя уходила. Обвинили. Потом мне сказали, что электрокабель замкнул, но я уже осуждена.
Разгрузились на запасных путях большой станции ночью, колонной прошли через весь город, по шаткому трапу поднялись на баржу. Утром маленький пароход потащил баржу на север.
* * *
Анна вернулась через два года. Мать едва дождалась, добрые люди помогали и сеном для коровы, и дровами. А в огородишке сама управлялась. Прибежали подружки-одиночки, выпили по стакану бражки за встречу, новости рассказали. Председатель колхоза теперь Гриша Антонов, долго служил на Востоке, а потом в заготконтору устроился. Сказывают, вызвали его в райком и сказали, что не к лицу фронтовику и коммунисту груздями да шкурками заниматься, надо ехать в родное село и поднимать колхоз.
– Анна, теперь у нас пимокатня своя, овечек развели каких-то лохматых.
– Саженцев привез Григорий Андреич, всю деревню вывел за старую мельницу-ветрянку, сад теперь у нас, говорят, на будущий год яблоки будут.
– Телятник новый достраивают, ты бы шла, просилась телятницей. Хоть в тепле.
Анна вздохнула:
– Намерзлась я, подружки, на всю жизнь.
Еще одну новость вспомнили:
– Федька Фаркоп утонул на Аркановом озере под пьяную лавочку.
Анна кивнула, мол, знаю, мама сказала.
Утром пошла к бригадиру животноводства, пока он в правлении находился, а среди дня где его сыщешь? Смотрит: вроде знакомый, из соседней деревни, колхозы-то объединили. Красивый мужчина, лет больше сорока, в галифе и хромовых сапогах, волосы назад зачесаны и чистые, аж пушатся. Узнала, как зовут, подошла:
– Степан Федорович, работу пришла просить.
Батурин посмотрел внимательно:
– А ты откуда взялась? Ни разу тебя не видел.
Анна опустила голову:
– Из заключения я. Вчера пришла.
– За что?
– За сливки.
Бригадир кивнул:
– Слышал про эту дурь. В иных местах тыщами теряем, а человека за рубль на каторгу шлем. Что можешь работать?
– Да все! – смело ответила Анна. – Мне сказали, что скоро телятницы нужны будут.
– Уже сегодня нужны, – ответил бригадир. – Только ты имей в виду, за телятами, как за малыми детьми, надо ухаживать.
Анна покраснела:
– Детей у меня нет, но телятишек люблю, со своими, бывало, разговариваю, а они прислушиваются, вроде понимают что.
– Вот и славно, завтра приходи на ферму, я подъеду.
В новом телятнике Анна набрала группу новорожденных, только неделю жили они с матерью в родилке, а потом она на руках, завернув в старое одеяло, переносила их в клетки, давала бутылку с соской, а если не принимал – поила с пальца, как дома. Она звала их ребятишками, каждому давала имя, понимая, что уйдут в среднюю группу – никто их там ласково называть не будет.
…Анна улыбнулась, и будто запах молочного теленка вдруг напахнул, будто он, ласковый, нежно лизнул ее в щеку шершавым своим языком, как не раз бывало.
А до того она неделю наводила в телятнике свой порядок. Глиной с рубленой соломой промазала все пазы, побелила стены и клетки, у дверей сколотила ящик, засыпала опилом и попросила веттехника, чтобы привез ей бутыль той жидкости, которая все микробы убивает. На дощечке углем написала «Вход воспрящен!» и приколотила ее к дверям. Степан Федорович пришел посмотреть готовность, для приличия почистил подошвы сапог во влажных опилках, все осмотрел и довольно улыбнулся:
– Молодец, Анна, вижу: добрая из тебя телятница выйдет. Все, завтра новорожденные уже к тебе пойдут.
– Степан Федорович, скажите дояркам, чтобы они мне молоко сдаивали от крепких коров.
– Это ты сама решай. А тут что за веники?
– Из дома травы принесла, у меня их полно всяких, от всех болезней.
– Смотри, не перепутай, а ветврачи – народ капризный, случится падеж – припишут.
Анна улыбнулась:
– У меня не случится.
– Да вот и кстати разговор. Сохранишь весь молодняк – с каждой полсотни один твой, натуральная оплата. Ну, удачи тебе в работе.
Анна проводила гостя за дверь, обернулась, а на дощечке исправлена одна буква. Конечно, это он, а ведь ничего не сказал. Анна и сейчас помнит, как екнуло сердце и вспыхнуло давно не горевшее лицо. Остановилась: «Ой, чтой-то со мной?»…
* * *
Ольга накормила Анну, прибрала в избе и в горнице. Горенку-то пристроил еще Федя Фаркоп, хоть и наглый, а матери стеснялся. Выписал в колхозе лес, срубил троестен, позвал мужиков, и артелью приткнули сруб к избе, закрепили скобами, под окладник чурок набили, крышу общую навели. Это уж позже Анна купила шифер, сбросали дернины, сросшиеся потником, домик стал поприличней.
– Ладно, тетка Анна, лежи, я побежала, своей управы полно. Мой-то опять в загул ушел.
– Ты не ругай его, а поласковей, подлизнись, ему стыдно станет.
– Ой, тетка Анна, ему хоть кол на голове теши, неделю спит на диване, думала, может, среди ночи подсунется – куда там! Водка дороже бабы. Да, подобно тому, ему и баба-то не нужна.
– Только не ругайся, этим разозлишь, еще тошней станет. Оля, подай мне коробочку из комода.
– Которую?
– Ну, ты же знашь…
Коробочку открыла, когда ушла Ольга. Вывалила все на одеяло. Взяла первый значок: медаль. Эту дали перед уходом на пенсию. А эта первая, тогда многих женщин наградили. Прасковье Апрошиной дали отрез крепдешина на платье, а Наташке Цыганке часы наручные. Анна улыбнулась, вспомнила, как материлась Наташка: «На кой мине часы, я цифры не знаю. Лучше бы отрезали на платье». А вот это тяжелое, большой орден, Степан Федорович сказал, что надо еще одну пятилетку так поработать, и можно к Герою представлять.
Не получилось с Героем, председатель колхоза чем-то району не угодил, сняли, привезли какого-то очкарика с портфелем. А как народ жалел Гришу Антонова! Колхоз миллион прибыли получил, Григорий Антонович умолял на отчетном собрании не делить прибыль, а лучше провести по деревне водопровод и электричество. Цельное лето рыли траншеи под трубы, каждому отвели по тридцать метров, а глубина два с лишним. И рыли, больше экскаватора сделали.
Потом колонки поставили на перекрестках, над ними избушки для обогрева, старых пенсионеров посадили на раздачу воды. Так же и под столбы ямы копали, потом чистили сосновые бревна, устанавливали и трамбовали грунт. Построили кирпичную электростанцию, немецкий дизель привезли. Приехала бригада из Казахстана, натянули провода, потом к каждому дому и по дому проводку. В полночь дежурный машинист три раза выключит свет, значит, через пять минут заглушит дизель. Чем не жизнь?
При очкарике колхоз перевели в совхоз, и сразу все переменилось. Собраний не стало, директор все решал приказом. С передовиков скатились, и награждать перестали. Вот еще кучка значков, каждый год давали «Победителю соцсоревнования».

Степан Федорович потом много раз рассказывал ей, что сразу заметил работящую женщину, громкоголосую, но безвредную, она не жаловалась никогда, а прямо высказывала все претензии телятницы к руководству, Степан Федорович старался поправить дела, чтобы в следующий раз вопросов было меньше. Он и сам не заметил, что зачастил в телятник, заботиться о подрастающем молодняке входило в его обязанности как заместителя председателя колхоза по животноводству, но люди-то видели, что не все так просто.
Тогда же устроили на ферме встречу Нового года, «Голубой огонек» назвали, посидели за столом в красном уголке, выпили, песен попели, даже потанцевали под гармошку, скотник Пантелей Шубин съездил домой, привез хромку. Расходились уже под утро, да так вышло, что мимо дома Степан утянулся вслед за Анной, догнал ее в калитке, придержал за рукав:
– Что же ты от меня бежишь, Анна, брезгуешь моими годами?
– Разговоров боюсь, Степан Федорович, жена у тебя и работа ответственная.
– В избу-то пустишь?
Она молча прошла в ограду, открыла дверь, в избе включила свет, задернула занавески на окнах, присела к печке и подпалила приготовленные заранее дрова. Не снимая полушубка, он привалился к столу, положил шапку на подоконник.
– Закурить разрешишь?
– Кури, вот блюдечко под пепел.
– Анна, я есть хочу, салаты-винегреты не по мне. Не дай с голоду помереть.
Она пихнула на элетроплитку кастрюльку с водой, сунула в нее кипятильник и принесла с мороза мешочек с пельменями. Порезала булку подового домашнего хлеба, из подполья достала грузди, огурцы и капусту, открыла банку помидоров, поставила бутылку водки. Готовые пельмени выложила в глубокую тарелку и залила бульоном:
– Угощайся, Степан Федорович.
– А себе рюмку?
– Не пью я совсем.
– Со мной. Прошу, Анна.
– Ради тебя только. С Новым годом, Степан Федорович!
Она пригубила рюмку, сморщилась и закусила грибочком. Степан густо обсыпал пельмени перцем, полил уксусом и хлебал деревянной ложкой вместе с бульоном.
– Анна, отчего замуж не выходишь? Женщина ты видная, все при всем, есть на что посмотреть, на работе молодец, в доме у тебя порядочек.
Анна смахнула слезу:
– В молодости не повезло на доброго мужика, а потом где его взять, толковые все прибраны, а бросовые мне не нужны, лучше одной мучиться.
– Меня не прогонишь сегодня?
– Не прогоню. Только до света домой уйдешь, чтоб не видел никто…
* * *
Всю историю своих мучений Степан рассказал Анне, когда совсем перешел к ней.
Конечно, со стороны это невозможно понять, потому что и года уже подпирают, и семья у Батурина немалая, два сына и дочь, теперь в чужих краях живут, давно на своих ногах. Жена бессловесная, никогда поперек слова не скажет, со всем согласна. Дом приличный, хозяйство, мотоцикл «Урал» ему через райком выделили, считай, первому в колхозе. Со стороны посмотреть: что не жить? А он зачастил к чужой бабе, да и не особо скрывался, а когда в колхозной бухгалтерии женщин за обсуждением непутевой Анны застукал, спокойно сказал враз онемевшим, что Анна теперь жена ему, фактически жена, и что формальности все для людей они на днях оформят.
Вскоре после этого в райком вызвали, на всякий случай партийный билет с собой взял, Анну успокоил: никакого значения для них этот разговор не возымеет, разве что ускорит события да кровь немного попортит.
Первого секретаря Рыбакова Степан хорошо знал, тот в колхозе бывал частенько, заместителя уважал, советовался по хозяйственным делам, но была за первым нетерпимость к вольным проявлениям, например, пристрастия к спиртному он не прощал, а еще любовных приключений. Поговаривали, что в молодые годы Рыбаков сам был ходок еще тот, но со временем образумился, да и должность уже не позволяла вольничать, все-таки деревня, не спрячешься, люди все видят.
В душе Степан заранее смирился с любым решением райкома, но как-то занозило: партбилет он на фронте получал, правда, тот давно отняли и выдали в порядке обмена новый, но год-то вступления обозначен, 1943-й. Знатное было время, по всем фронтам наступали, Степан в роте автоматчиков один остался от первого призыва, всех друзей схоронил или по госпиталям растерял. Отдашь билет – как часть памяти выбросишь.
Перед самым обедом секретарша позвала его из коридора, он вошел в кабинет, в котором не раз бывал на совещаниях. Рыбаков кивнул, не вставая, и руки не протянул, это Батурин отметил и заодно утвердился, что добра ждать не приходится.
– Садись, – сказал хозяин кабинета. Гость примостился на крайний стульчик. – Рассказывай, Степан Федорович, как дошел до такой жизни.
– Вы про работу или про что, Василий Петрович? – неожиданно для себя переспросил Степан.
– Ты дурака-то не валяй, мы с тобой не тридцать ли годов знакомы, так что давай начистоту, что там у тебя с семьей?
Батурин хотел было сказать, что семьи у него давно нет, как детей проводили, так и нарушилось все, будто они развезли с собой все благополучие и благопристойность этого завидного дома. Куда-то в пустоту провалились беззаботные дни семейной радости, когда после долгого дня на работе он приходил домой, мылся в баньке, заботливо протопленной хозяйкой, говорил с ребятишками об учебе, об играх, о книжках прочитанных. Не было для него другой жизни, работа и семья, жена и дети.
Конечно, не насильно его женили, к тому времени такая мода прошла, сам выбрал свою деревенскую, сразу после демобилизации. Он пытался после определить границу между нормальной жизнью и ее утратой, и находил эту грань как раз на прощании с дочкой, которая после техникума вышла замуж и без свадьбы уехала на Север. Родители остались вдвоем, и сразу стало заметно, насколько они чужие без детей.
Степан испугался своего открытия, но каждый день подтверждал, что это правда. Нет, он не ругался с женой, не устраивали они скандалы на всю улицу, как это бывало кое у кого, и сковородками друг в друга не швырялись. Опустела вдруг душа, жену ни в чем не винил, да и сам долго не мог разобраться, почему пироги стали невкусными, почему незаметно стал ночевать на диванчике, сначала как бы случайно засыпал под телевизор, потом и вовсе перебрался.
– Что там у тебя с семьей?
– С женой разводиться буду, Василий Петрович, так получается.
– Ты к женщине этой совсем перешел, с вещами?
– Пока нет, иногда дома ночую, хозяйство все-таки, надо поддерживать.
Секретарь встал из-за стола, прошелся по кабинету:
– Нехорошая картина вырисовывается, Степан Федорович, для руководителя, для члена партии, что люди говорят, ты знаешь? А говорят, что коммунист не может вести аморальный образ жизни. Ты согласен?
Степан напрягся:
– Не согласен, Василий Петрович, потому что коммунист тоже человек, а у человека чувства есть, как тут быть? В уставе нигде не написано, что я должен жить с нелюбимой женщиной.
– Ишь ты, какой теоретик, под свое многоженство уже марксизм подвел. Ладно, не пузырись. Ты кругом неправ, потому слушай. Выговор по партийной линии получишь, на работе оставим, тебе сколько до пенсии?
– Два года.
– Доработаешь, там посмотрим. Имей в виду, поблажка тебе только за счет твоих заслуг, а что касается женщин, ну, подумай сам, Степан Федорович, дай сегодня волю – половина мужиков своих баб бросит, ведь так?
Батурин опять хотел сказать, что партийной дисциплиной семью не удержишь, но перечить не стал.
* * *
Анна никогда никому не говорила, даже близким подружкам, как они живут со Степой, боялась сглазить. Первое время она просыпалась среди ночи, выпрастывалась из крепких объятий мужа и суеверно смотрела на его лицо. Каким родным оно было для нее, женщины, ставшей законной женой в сорок пять лет! Вот эта родинка над бровью, шрам на щеке через всю шею, ножом в рукопашной на фронте получил. Морщинки у глаз появились, раньше не было.
Степан звал жену Анной, и дома, и на людях. Завел хозяйство, корову и овец, весной цыплят привозил гусиных и утиных, благо озеро за огородами. В кампаниях садились рядом, захмелевший Степан обнимал Анну и спрашивал на ушко, но чтоб другие слышали:
– Анна, скажи, ты меня любишь?
Анна смущалась и краснела. Крестный Максим Хромой однажды выговорил Степану:
– Степан Федорович, вот ты давечь опять про любовь. Тебе седьмой десяток, кака может быть любовь?
Степан широко улыбнулся:
– Максим, я тоже не знал, пока Анну не встретил. Любовь такая, что я без нее за стол не сяду и в постель не лягу. Вот обняла она меня, поцеловала – я сплю, как младенец. А ты?
Максим махнул рукой: что, мол, с тебя возьмешь, малохольного?!
Степан умер во сне и так тихо, что Анна не слышала. Проснулась: пора вставать. Надо через мужа тихонько перелезть, и сколько она ни старалась, он всегда просыпался и крепко обнимал ее, горячую со сна. А тут перелезла, поправила на нем одеяло и вроде пошла, но вдруг вернулась, увидела перекошенное лицо, схватила за руку – холодная. Не помнит, как выскочила во двор, добежала до Ольги, та вызвала участкового и медичку. Ольга же обошла соседей, покойника обмыли, одели, положили на плахи, закинутые половиками. Анна два дня просидела в изголовье, гладила волосы, поправляла воротник рубашки. Вспомнила: ко Дню Победы купила мужу, шибко она ему нравилась.
На кладбище, когда стали заколачивать гроб, она вскрикнула и потеряла сознание. С тех пор не вставала, не жаловалась, потом отказалась от еды, от лекарств, не согласилась ехать в больницу. Ольга видела, как она гаснет. В последний день поманила племянницу взглядом, шепнула:
– Степину могилу откроете, там мое место.
Автор: Ольков Николай