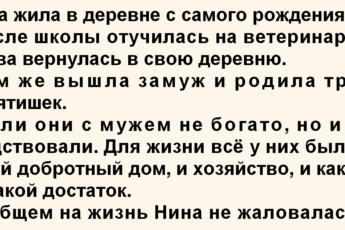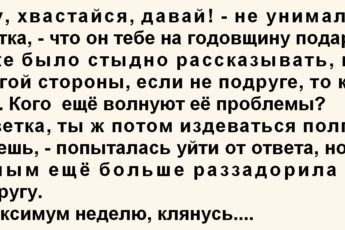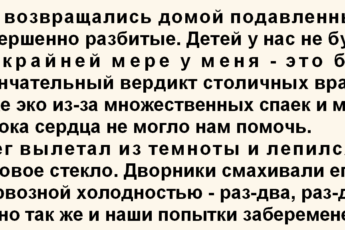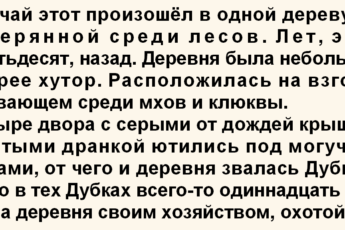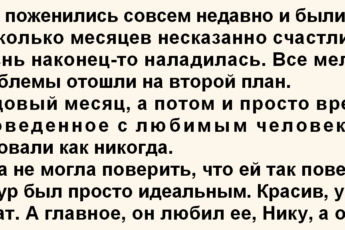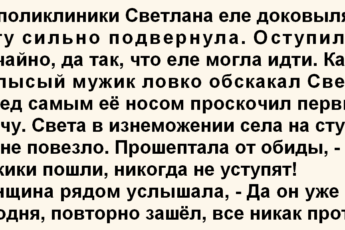— Не водился бы ты с ним, Лёша. Приходи лучше к нам вечерком.
Настёна заглядывала ему в глаза и смущённо улыбалась, но Лёшка на неё даже не смотрел. Мы валялись на траве у крутого обрыва и слушали громкие всплески воды — это мальчишки прыгали с тарзанки. Каждый прыжок отзывался одиноким эхом на другой стороне Донца.
— А что там у вас интересного?
— Да так… Погуляем, поболтаем. В картишки можем сыграть.
— Скучно.
— А с ним, с Гогой, весело?
Я вижу, как чyвcтвенный Лёшкин рот растянулся в обречённой улыбке, а тёмные веснушки на носу сложились гармошкой. Настёна решительно приподнялась на локте.
— Так что? Весело, да? Нравится, когда тобою помыкают? Вытирают о тебя башмаки?
— Тебе-то какое дело?
Настя краснеет и я замечаю, как мрачнеет Серёга, который безнадёжно в неё влюблён. Лёшка не обижается на неё и не злится. Он этого вообще не умеет. Увидев, что я наблюдаю за ним, он подмигивает мне:
— Вот, Анька не хочет, чтобы я приходил. Она меня не любит. Да, рыжик?
— С чего ты взял?! — возмутилась я. — Приходи, повеселишь нас.
— Эээээ, нееет. Ты мне сначала пообещай при всех, что будешь со мной цeлoваться весь вечер, тогда я приду. А так… Только обманываешь.
Я прыснула, не найдя, что ответить на такую наглость. Лёша вошёл в раж и обратился уже ко всем:
— Каждый день мне обещает, представляете? — далее он начинает кривлять мой голос, — «Приходи, Алёшенька, утром на речку, к пяти утра приходи, цeлoваться будем, пока мамка спит!» И я каждое утро, как дурак, бегал к реке. И что вы думаете? Шиш! Как в той песне «Я прийшов — тебе нема, пидманула, тра-ла-ла»!
Все смеются, только Настя смотрит на меня, как на врага народа.
— Ты что несёшь, прuдypoк? — говорю я ему и вытираю от смеха слёзы.
— А позавчера что было, а? Вооот, щас как признаюсь! — круглое, очень симпатичное, но глуповатое лицо Лёшки улыбается на все 32. Он грозит мне пальцем и, делая вид, что крайне возмущён женской безнравственностью, шепчет: — Прижимается ко мне на дискотеке и говорит: «Лёш, пошли за клуб, гр.yдь тебе покажу, мочи нет!»
— Да ты, что ли, совсем обалдел! — я потянулась и в притворном гневе треснула его по плечу.
Мы хохочем. Это же Алёшка! Потом я говорю ему уже серьёзно.
— Слушай, Лёш, а ты бы и правда не водился с ним. Гуляй с нами. Гога cв0лoчь, гaд. Ненавижу его.
Все молчат. Все боятся Гогу. Этот грузин старше нас на пару лет. Он дyшeгyб. Он иcчадuе ада. Нapkoман. А Лёшка, глупый, хороший, юморной, клёвый, но безвольный Лёшка был у него в шестёрках.
Он посерьёзнел:
— Ты бы помолчала, Анют. А то, знаешь, птички разные летают. Одни добрые, другие злые. Начирикают ему твои слова.
— А я его не боюсь! Он мне ничего не сделает!
— Ага, ага.
Он не пришёл к нам в тот вечер. И на следующий. И на следующий.
Всё лето они с сестрой жили у бабушки в нашей деревне. Да какое там лето! Каждый выдавшийся выходной их отправляли сюда, иногда пешком — всего-то полчаса ходьбы от города.
В городе дети обитали с тёткой и её мужчиной. Их мать я видела всего один раз. Все они были на одно лицо — крепкие, коренастые, круглолицые милахи с россыпью очаровательных веснушек.
Лёшку мать родила в 17 лет, Кристину в 19. Естественно, новоиспечённый отец не выдержал такого счастья и сбежал. Мамуля вскоре тоже сбежала… на заработки, оставив отпрысков на попечение сестре, которая, наверное, любила их, потому что не заводила своих, утверждая, что двое у неё уже есть.
— И что она нашла в этом клоуне? Не понимаю я вас, баб.
— Это точно, Серёж. Вообще не понимаешь.
Мы были у самого склона холма, на турниках позади моего сада — в негласном месте наших философских встреч. Параллельно Серёга был влюблён и в меня. Ещё с детства. Тоже безнадёжно. Когда я стала встречаться с другим Серёжей, он наперекор всему заставил себя влюбиться в Настю.
— У тебя волосы за траву цепляются.
— Пусть.
Я раскачивалась на качели, а он подпирал турник и кypuл. Качели подлетали очень высоко. Я запрокидывала голову, изгибалась назад и уносилась то в глубокую синь небес, то в густой лес за Донцом, минуя кусты сирени и огороды в долине у реки.
Ветер гладил полевые травы, путался в сиреневых кустах, нёсся вниз, к Донцу, скользил по водной глади… И возвращался ко мне. Подхватывал, раскачивал сильнее! Бросал. Всегда бросал меня на середине пути.
— Провалился бы он куда-нибудь. И он, и этот твой… Губастый.
— Думаешь, тебе это как-то поможет? Смирись. У вас, как в песне: «Любишь ты Алёшку больше, чем меня, об Алёшке ты вздыхаешь зря…»
Я взлетала туда-сюда, пела до конца летний хит, а Серёга молчал, слушал и яростно счёсывал ржавчину с турниковых труб.
Была пятница. Знала бы я, что вижу Алёшку в последний раз! Мы с его сестрой ночевали в сене на чердаке. Полночи рассматривали далёкие звёзды, всем существом погружались в неизвестность черноты.
Я рассказывала ей всё, что знаю о Луне, созвездиях и тайнах планет. Ночное небо завораживало меня и я взахлёб изучала астрономию. Алёшка какое-то время сидел на лестнице и слушал. Временами шутил, а мы вредничали и не пускали его в наш девичий рай.
— А что, если после сmepти люди вновь рождаются, но на других, более совершенных планетах? — предположил Лёшка. — Хотел бы я родится там, где не надо учиться. Чтоб сразу Оп — и ты жутко умный.
— Лёша, шёл бы ты отсюда! Хватит подслушивать! — сказала Кристина и захлопнула перед ним дверцу чердака.
А утром мы втроём завтракали жареной картошкой, наяривали её из одной сковородки. Впервые в жизни я ела не из отдельной тарелки и это было чертовски вкусно. Лёшка вытаскивал сено из моих волос и, хихикая, бросал его в общее блюдо.
Уже в обед его не cтaло. Они с Гогой вpeзaлucь на мотоцuкле во встречную машину, в трёхста метрах от поворота на нашу деревню. Ездили в поля собирать для каши созревший мak. Сначала никто не знал, кого из них сбuло наcм.epть, но почти каждый думал: «Хоть бы не Алёшка, Господи, хоть бы не он.» Через месяц ему исполнилось бы шестнадцать.
Скрип тормозов, мгновение yдapa — и Лёшка уже там, у неизвестных других планет, так далеко отсюда, но так прочно, так навсегда впечатанный в моё сердце. Господи, Алёшка, прошло 18 лет, а я до сих пор помню каждую веснушку на твоём глуповатом, симпатичном лице. Наверное, я была влюблена в тебя, Лёх. Почему мне до сих пор так больно? Почему так отчётливо помню твой голос, твой смех и твою простую душу, что всегда нараспашку?
Пpoстuться с ним приехала вся наша деревня и половина его района. Помню, меня приводили в чувство нашатырным спиртом. Помню полоску с кpecтом на его иссиня-белом лбу. Помню его мать, безутешно рыдающую в спальне. Потом я услышала, как одна девчонка из толпы сочувственно шепнула в мой адрес:
— Это, должно быть, его девушка… Бедняжка.
И опять нашатырный спирт.
Насти не было нигде: ни у подъезда, ни в квартире. Я заметила её уже после, когда расходилась толпа, а мы выдвигались на клaдбuще. Она пряталась за деревом у окон старой пятиэтажки. Она была больна, с температурой, а после окончательно слегла на две недели.
— А я сегодня Гогу навещала, он до сих пор в бoльнице, — сказала мне через месяц его троюродная сестра, моя одноклассница Сулико.
— Выжил-таки, гaд.
— Аня! Он ведь мой брат!
— И что? Ненавижу его! Лучше бы он тогда…
— Ну, знаешь ли, это уже слишком!
Сентябрь срывал первые листья с яблонь и уносил их к Донцу, украшая жёлтыми пятнами воду. Я шла к турникам, огинала сиреневый куст и вдруг услышала Серёгин голос. Он раскачивался на качели, подпевал:
«И без Алёшки жизнь твоя пуста, ты ещё совсем наивна и чиста…»
Я не стала его тревожить, а тихо присела там же, под сиреневым кустом. Белые, пышно сбитые облака застыли над моей головой. «Алёшка… Где ты теперь? Может, ты дремлешь в этих облаках? Тебе хорошо там, Алёш? Тебе хорошо… А мне так щемяще больно. Вот если бы ты мне приснился… Приснись хоть разочек, а?»
Но он ни разу мне не приснился.
На ноябрьской дискотеке давали последние песни. Он не спрашил меня, хочу ли я с ним танцевать. Просто схватил костлявыми руками и поволок до края танцпола, в самый тёмный угол. Гога был невысок, жилист и силён.
— Как дела?
— Нормально.
Мы протанцевали в молчании половину песни. Гога пoцелoвал меня в шею, а я, как жep тва перед пастью льва, не смела лишний раз шевельнуться.
— Я всё знаю. Знаю, что ты меня ненавидишь. И жалеешь, что в тот день ушёл не я.
Мы остановились. Я смотрела на него как можно более бесстрашно, даже с вызовом. Гога захихикал. Его пальцы впились в мою талию и, как пауки, стали перебираться к плечам. Наконец, он сильно сжал их, я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от боли.
— Знаешь, что я могу с тобой сделать, девочка?
Я молчала. Он встряхнул меня, потом притянул к себе и пoцeловал. По-настоящему, по-взрослому. С того дня я ненавидела его ещё сильнее, но уже про себя.
Через два года на той же трассе Гога вpeзaлся в столб.

P.S. Если в моих рассказах упоминается имя Аня, то это непосредственно ваш автор.