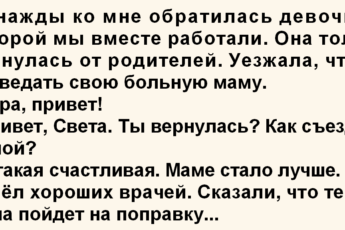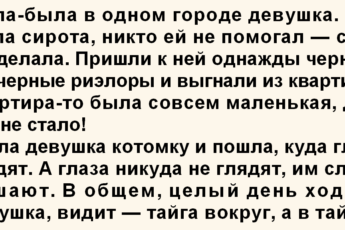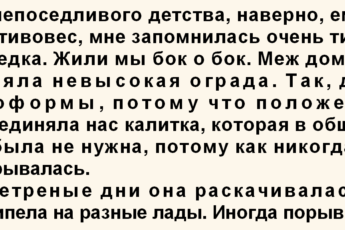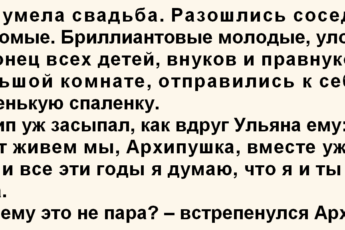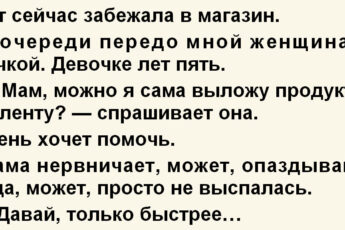— Лиска! Лиска! Эка шантрапа и где опять шаландатся? Сроду её не найтить!
Акулина переступила порог, подоткнув подол цветастой юбки, остановилась, перевела дух в прохладе избы, провела по лбу тыльной стороной руки, обтёрла пот.
— Лизавета! – крикнула она вновь, — Тута ты али нет?
Ответом ей была лишь тишина.
— Да что ж такое, — вздохнула мать, и, зачерпнув ковшом воды из ведра, жадно напилась и вновь вышла из дому.
Сняв с плетня перекинутый через него серп, она пошла было в огород продолжать прополку, да в ту же минуту ворота распахнулись, и во двор заскочила белобрысая, веснушчатая девчонка лет одиннадцати с растрепавшимися волосами, в разорванном на боку сарафане.
— А-ба, — всплеснула руками мать, — Это где ж ты, растыка эдакая, платье опять порвала?
— Маменька, ты не серчай, я всё починю, это я нечаянно, я от гусей удирала, полезла через забор, а там сучок был, вот и зацепилась боковиной-то.
— Шьёшь на тебя шьёшь, старашшся, а ты всё одно, в лохмотьях, — в сердцах махнула мать рукой, — Ведь на Троицу только пошила я тебе новое платье, а уж оно у тебя три раза штопано.
— Да ведь я ненарочно, — насупилась Лизавета.
— И что за девка така, — возмутилась Акулина, — Будто городска барышня, ведь ты в деревне родилась и выросла, чего ты этих гусей боишси?
— Страшные они, — надула губы девчонка, переплетая тем временем скорёхонько косу, пока мать не заругалась ещё и насчёт этого. Она плюнула на ладошку, растёрла и помазала по волосам – вот так, теперь прилично, всё пригладилось поди-ка, жаль зеркала нет под рукой, не поглядеть, ну да и ладно, хорошо, небось.
— Страшные, — повторила мать, — Быка Грома ты не боишься, а от гусей бегаешь, разве это дело?
— А что Гром? – развела руками Лизка, — На то он и бык, чтобы сердитым быть, да он и не злой вовсе, ежели его не травить. Почто к нему зазря лезть? Вон мальчишки в него кидают шишками, он и обижается, я бы тоже обиделась. Правильно, что он злой на них. А на меня он не злой, потому что я ему корочки хлебные таскаю. А от гусей этих спасу нет, они птицы бестолковые, добра не понимают, их никак не задобрить, ты их не трогаешь, мимо идёшь, а они всё равно бегут кажной раз, шеи вытянут, шипят. А клювы-то у них во-о какие, уж цапанёт, так цапанёт! С мясом вырвет!
Мать закатила глаза:
— Ох, трындычиха, и в кого така уродилась. Я так молчу всегда почти. И отец-то неболтлив. По делу только говорит. А эта, что трещотка, молотит – не остановить.
— Маменька, а ты чего звала-то меня? Я с улицы слышала, как ты окликала.
— Эка ушаста, — подивилась мать, — Звала, да. До бабы Шуры сбегать надобно, проведать, мазь она просила для ног, так я вот сделала с вечера. Да каравай возьми свежий, там, на столе, под полотенчишком стоит. Остальное в корзине уже, корзина на лавке. Да умойся поди сперва.
— Ладно, мамонька, сейчас сбегаю.
— Там спроси, можа нужно чего, полы помыть, али за водой сходить на родник. Она родниковую воду больно любит. Помоги, одним словом. Да платье-то переодень, ну истинно оборвыш. Поняла ли?
— Поняла я, поняла, мамонька, — нетерпеливо крикнула на ходу Лизавета, стуча босыми пятками по крыльцу, — Ай, жжётся-то как! Нагрелось!
— Да, жаркий нынче день, палит немилосердно, — Акулина приложила ладонь к глазам, поглядела на небо без единого облачка, в котором кружил одинокий ястребок, высматривая куриц-ротозеек, у которых цыплята отошли в сторону, — Уж сколь недель вёдро стоит, дожжа надо. Высохла земля.
Женщина вновь утёрла лицо рукавом рубахи и пошла в огород, полоть межу.

Лизавета бежала по тропке вдоль лога весело и прытко. Над логом нависли деревья, а внизу журчал ручей, и оттого было здесь прохладнее, чем везде. Внезапно на тропку выскочила юркая изумрудная ящерка в коричневую крапинку и остановилась, подбоченясь, и глядя круглой бусиной на девочку. Затем, так же молниеносно, она скрылась в траве на противоположной стороне тропки, трава закачалась и зашуршала.
— Ишь, какая, красивая, — сказала Лизка, и пошла дальше.
Она любовалась синими стрекозами, что водились только в этом логу, и легкокрылыми бабочками, порхавшими над цветами, срывала засохшие, выгоревшие от засухи, ягоды и жевала их, напевала под нос песенку и шла вперёд, к бабе Шуре. Баба Шура приходилась ей не родной бабкой, а двоюродной, но почитала Лизка её за родную. Свою-то, бабу Зою, она и не видала никогда, та рано померла, сердцем. А вот сестра её старшая, баба Шура, жила. Сколько ей было лет, Лизка и не знала, ей казалось, что все сто, руки и лицо бабы Шуры были тёмные и все-все в морщинах, словно земля сухая, когда долго дождика не бывает, вот как сейчас.
Жила она с другой стороны деревни, по ту сторону лога, что разделял деревню пополам, и как бы в стороне от остальных домов, на отшибе. Стоял её домишко посреди поляны, которая сплошь поросла емшаном, ни единого цветочка не росло на ней окромя него, всё заглушил. И оттого казалась поляна словно покрытой сероватым туманом и пахло на ней всегда горьковато-терпко, так, что в носу начинало щекотать и хотелось чихать.
Детей у бабы Шуры не было, потому что муж её, дед Игнат, молодым помер, когда они только поженились. Собственно, дедом он тогда и не был. Так и не успел им стать, остался навеки молодым парнем. Лизка видела его на фотографии, что висела у бабы Шуры над столом в рамке. Ничего такой, красивый, длинная чёлка набок, улыбка… Они и года не прожили после свадьбы, как на него напали по дороге из города, куда он нанимался на работу, когда он с деньгами возвращался. По голове уд ар или и деньги отобрали. Хотели, может, и ог лу шить только, кто знает, а не рассчитали. Нашли его после уже холодного. Ох, и ревела Шурочка о своём Игнате, ох, и убивалась. За руки её держали бабы, всё норовила в могилу следом за мужем прыгнуть. Не дали.
— Хоть бы ребёночек мне от него остался, всё бы легче мне было, — стонала она, заламывая руки.
Да не дал Бог…
***
Лизка шустро перебежала через ручей, полюбовавшись на зелёную квакушку, что выглядывала из крошечной лужи, оставшейся от большой доселе запруды, образовавшейся от ручья, где жило лягушачье семейство.
— Эх, дождя надо, совсем тяжко им бедным, — посетовала девочка, — Того гляди и вовсе с концом высохнет запруда, вон какой ручеёк-то нынче слабый стал, еле бежит.
Она задрала голову наверх, между двумя склонами лога, на выгоревшем бесцветном небе, застыло жаркое солнце, ничего не предвещало дождя. Лизка вздохнула и поскакала дальше. Выбравшись наверх, она устремилась к дому бабы Шуры.
— Бабуня, дома ли?
— О, — раздалось из глубины избы короткое оканье, — Никак Лизавета пожаловала ко мне?
— Я, бабуня!
На пороге комнаты показалась сухонькая маленькая старушка, похожая на мышку с крохотными тонкими лапками, серыми волосами, выглядывающими из-под беленького платка, и в таком же сереньком льняном платье.
— Проходи-проходи, моя миленькая, — обрадовалась она гостье, — А я вот герань свою поливала в передней, гляди-ко, какой зной стоит.
— Баба Шура, а я тебе мазь принесла, матушка сделала вчерась, и вот каравай ещё свежий, нынче печёный. И там ещё чего-то матушка собрала, я и не знаю, не глядела.
— Вот и славно, вот и спасибо вам, дай-то Бог здоровья, — старушка с поклоном приняла из рук девочки корзинку, — Мазь-то надо в погреб снести, а то растечётся вся от такого жару. Пущай застынет малость. А мы с тобой сейчас обедать станем, я как раз окрошку сготовила на квасе. Вот только укропу бы ещё с луком надоть, сбегай-ко в огород, нарви тама.
— Сейчас, бабушка!
Они сидели за столом и Лизка с аппетитом откусывала большие куски от свежего ломтя ржаного каравая, и, прихлёбывая, ела окрошку. Окрошка была вкусная, с редисом и картошечкой, с варёным мясом. Квас у бабы Шуры был ядрёный, она добавляла в него хрен, и ещё чего-то, Лизка не знала что, язык приятно пощипывало и она ела с удовольствием.
— Мать-то чем занимается? – спросила баба Шура, когда они поели, и старушка перекрестившись на образа в углу, сказала, — Слава Тебе, господи, благодарим Тя за пищу нашу, не лиши нас и небесных Твоих благ.
— В огороде межи полет, — ответила Лизавета, приподняв миску и допивая из неё остатки окрошки.
— А отец?
— Отец на работе, в колхозе.
— Вот и ладно, никто не хворает?
— Нет. А тебе, бабуня, надо полы помыть или за водой сходить?
— Нет, детонька, у меня с прошлого раза ишшо чисто, как мать мыла, спасибо вам, помогаити, не оставляити.
Баба Шура задумалась.
— Айда лучше на дворе посидим, побаим.
— Пойдём, бабуня.
Они устроились на крылечке, скрытом от солнца листвой старой раскидистой липы, что росла у дома. Отсюда видать было всю поляну, что окружала дом, и от жары горький аромат полыни, казалось, пропитал всё кругом.
— Баба Шура, — поморщилась Лизка, — У меня даже во рту горько стаёт, как ты тут живёшь, а?
Баба Шура улыбнулась:
— Да я уж привыкла за столь лет, и нравится мне даже горечь эта. Да ведь не всегда тут полынь-то росла. Раньше, давным-давно, цветы тут цвели, у-у-у, какех только не было, и жёлтеньких, и бордовых, и голубеньких, всяких, а опосля одним годом всё исчезло.
— Как так? – округлила и без того круглые глазищи Лизка, — Разве так бывает?
— Бываить, милая, — вздохнула баба Шура, — Природа-то она человека чует, душу его, и ему под стать становится. Оттого и растёт вокруг моей избы вдовья трава.
— Вдовья трава-а-а? – протянула девочка.
— Да, эдак люди полынь называют. Оттого, что горькая она, как вдовьи слёзоньки, — вздохнула баба Шура.
— А как же одним годом-то она выросла? – спросила Лизавета.
— Как Игната мово не стало, — ответила баба Шура, потирая ладони о колени, — Так долго я убивалась по нему, жить не хотела без его. Уж меня вся родня и соседи проверять ходили по нескольку раз на дню, караулили, чтобы с собой чего не сделала. А я и хотела сделать, грех-то какой так говорить, но так и было, девонька моя. В один день помутилось у меня совсем в голове, взяла я верёвку и в сарай пошла. Такая же вот жара стояла, как сейчас помню. В сарайке тёмно, пыльно. Залезла я на чурбан, на котором дрова рубили, перекинула верёвку и почти уже дело это страшное сделать собралася, как позвал меня кто-то. Я сразу Игнатов голос узнала. Вздрогнула. Глянула – а он в самом тёмном углу сарая стоит и на меня глядит, а кругом него быдто свеча горит, такое вот ровное пламя светит.
Я замерла на месте. А он на меня ласково так смотрит и баит: «Что ж ты, Шурочка, творишь? А говорила, что любишь меня крепко?» и головой качает. «Любила и люблю!» — закричала я — «Жить без тебя не хочу». А он головой качает: «Нет, не любишь ты меня, коли надежды на встречу нашу лишаешь». « Как же?» — отвечаю я – «Да ведь я к тебе и хочу, оттого и задумала это». «Нет» — отвечает он, — «После такого уж никогда мы не встретимся, я-то в ином месте сейчас, а ты прямиком к ним пойдёшь, вон, поджидают уж они тебя стоят». Глянула я в угол-то, куда Игнат кивал, а там, Лизонька, черти как есть. Страшные, чёрные, с копытами, с рогами, зубы скалят, манят меня, и на петлю кажут, поторапливают, мол, давай скорее.
Ох, и перепугалася я, спрыгнула скорее с того чурбана да бежать из сараюшки и со двора. Выбежала на поляну перед двором, упала в траву навзничь и давай реветь. Ой, как я рыдала, девонька, всю землю, поди-ка, насквозь промочила слезами своими. Когда голову подняла, увидела, что солнце уж садится за лес. Встала я и домой пошла. Решила, что жить буду, ради нашей любви, ради нашей встречи у Бога. А на следующой год-то вся поляна полынью покрылась. Ни одного цветка не стало. Как выжгло всё. Это слёзы мои полынью оборотились. С той поры так и растёт вдовья трава кругом моей избы, ни одной травинке другой не даёт пробиться. А я её полюбила, горькая она да добрая. От нечисти, бают, защищает человека.
Лизавета слушала молча, не перебивая, личико её стало задумчивым и серьёзным, в груди встал комок, а в глазах блестели слёзки.
— Баба Шура, и ты всю жизнь одна прожила после? — спросила, наконец, Лизка.
— Одна, дочка, одна, — закивала старушка, — Хотя сватались ко мне. Но никого я больше не полюбила, не смогла в сердце впустить. Так и стоит мой Игнатушка перед глазами в том сияньи неземном, как я его в сараюшке увидала.
— Заговорила я тебя, — спохватилась баба Шура, — Иди-ко, милая, ступай до дому, матери надо помочь огород полить.
— Надо, бабонька, — согласилась Лизка, — Я пойду тогда?
— Иди-иди, дочка, да приходи ишшо, пока я жива. Кто знаит, сколько мне осталося.
Лиза обняла бабу Шуру, она была такой крохотной и хрупкой, как сухая травинка и пахло от неё терпко и горько – полынью. Только теперь Лизке уже не казался противным этот аромат.
Она схватила корзинку и зашагала по поляне к логу. На полпути она обернулась, баба Шура стояла у ворот и махала ей вслед. Лизка тоже помахала в ответ. Спустившись в лог, она услыхала, как в небе резко и раскатисто вдруг громыхнуло.
— Гром? – обрадовалась Лизавета, — Нешто дождь будет? Да хоть бы не сухая гроза только. Страшно это.
Она поглядела наверх. Серые тучи наплывали на небо с востока. Одинокая молния вспыхнула и погасла. Лизка ускорила шаг. Когда она уже почти дошла до другого края лога, на щёку ей капнули первые прохладные капли дождя. Вскоре упала ещё и ещё одна, и спустя мгновение неожиданно и резко хлынул ливень такой силы, будто разом разверзлись все небесные хляби. И вместе с этими потоками воды вдруг прорвался, наконец, и комок в Лизкиной груди и она заревела – громко и навзрыд.
Всё равно тут не было никого, кто мог бы её услышать, спросить, что с ней, и рыдания её смешивались с раскатами грома, начиналась настоящая буря. Лизка карабкалась наверх по ставшему вмиг скользким склону лога и всё ревела и ревела. Выбравшись наверх, она побежала во всю прыть по улице, в конце которой стоял их дом, и когда она добежала до родного крыльца, гроза уже вовсю бушевала, а в Лизкиной груди, напротив, стало вдруг так хорошо-хорошо, разлилось тепло и тихий свет бабышуриной любви такой, что всё терпит, всё прощает, всё переносит и всё покрывает. Настоящей любви. На которой и держится весь этот мир.
Автор: Елена Воздвиженская