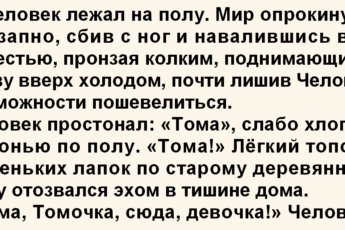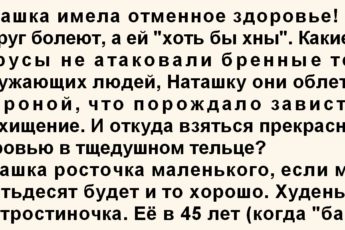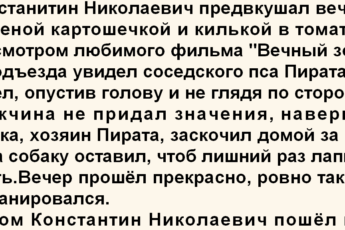27 сентября 1971 года. Утро. Солнечный свет бил из окна. Пыльное стекло, решетка, облупившийся подоконник – все выглядело каким-то праздничным.
Это сентябрьское утро было почти обычным и ничем не отличалось от других, монотонных, спокойных утренних часов. Разве что было каким-то особенно светлым. Пожелтевшая листва отливала золотом, солнце сияло, и, казалось, даже воздух был золотым.
С утра в наш магазинчик почти никто не заглядывал, разве что Колян и Толян, или сразу оба. За водкой, разумеется.
— Доброе утро, барышни! – Колян, как всегда, был учтив.
— Как обычно? – спросила я.
— Разумеется.
Нарочито громко я поставила на прилавок бутылку. Колян, оглядевшись испуганно и обреченно, взял ее и, с укором посмотрев на меня, произнес:
— Премного благодарен.
Хлопнула дверь, и мы с Любой остались одни.
— Теперь, небось, до обеда никого не будет, — лениво зевнула она.
— Пьет Николай, а что сделаешь? Жаль, хороший мужик.
— Хороший. Все они хорошие, — горестно вздохнула Люба.
— Любань, не начинай! Даже не вздумай!
— Тебе-то везет. У тебя муж какой-никакой есть… ох… опять.
Люба, присев, обхватила обеими руками округлившийся живот.
— Любань! Ты чего? Ты чего, а? Рожать, что ли, сегодня надумала? – закричала я.
— Ооо… не знаю. С ночи еще боль ноющая появилась, — прокряхтела Люба.
— Ты ж рожаешь, милая! – сказала я, взяв ее за плечо.
— Нет, кажется, нет. Вроде отпустило…
Час спустя Саша, мой муж, и я, везли Любаню на старой отцовской «Волге» в Москву.
15 апреля 1971 года.
Люба, моя двоюродная сестра, сидела на тахте, поджав ноги, и курила.
— О чем же ты думала? О чем? Четыре месяца! Голова-то на плечах имеется?
— Катя, ну ты же знаешь, что у меня дис-функ-ци-я! «Дела» приходят нерегулярно! – ответила Люба, затушив сигарету.
— Не переживай ты так. Ребенка я все равно не оставлю. Ты же мою мамочку знаешь, — усмехнулась она.
Мать Любы, Татьяна, родная сестра моей покойной мамы, была женщиной набожной, и каждое воскресенье ходила в церковь при женском монастыре, который находился в нашем поселке. Всегда очень строгая, она без конца «пилила» Любу, из-за чего та ушла из дома в 16 лет, поступив после восьмого класса в училище, где ей дали койку в общежитии.
Некоторое время тетя Таня сокрушалась, но потом совершенно справедливо решила, что «остается только молиться», и оставила в покое свою заблудшую дочь. Естественно, о «похождениях» Любы она ничего не знала, так как на лавочке у подъезда не сидела, сплетни не слушала – тихо, боком, проходила мимо участливо глядящих на нее соседок, едва кивнув им.
— Любочка! Ты с ума сошла! Как это – «не оставлю»? Уже четыре месяца! — искренне удивилась я.
— Да что ты пристала! – Люба, наконец, зарыдала.
— Кто отец? – спросила я.
— А то ты не знаешь, — ответила Люба, вытирая накрашенные глаза рукавом блузки.
— Люба!!! Так ты что… ты с ним продолжала… ну, ты и дурочка! – не выдержала я.
Люба, перестав плакать, встала и, схватив сумочку, побежала в коридор.
— Стой, Любань, ну стой. Не обижайся, пожалуйста, и пойми – я ведь тоже в шоке.
С Арменом Люба встречалась два года, уже успела сделать от него аборт, и вот сейчас снова… и уже четыре месяца.
Армен с женой и двумя дочками-погодками переехал в наш поселок около трех лет назад. Жена Армена, Тамара, тихая несчастная женщина, работала воспитателем в детском саду, куда ходили мои младшие сыновья. Она, конечно же, знала, что моя сестра Люба встречается с ее мужем, но относилась к этому внешне спокойно, хотя в глазах ее чувствовалась боль и немой упрек.
Сколько раз я уговаривала Любу прекратить эти отношения, сколько раз она говорила мне, что больше не встречается с Арменом, и сколько раз моя подруга Люська «открывала глаза» на Любину бесконечную ложь!
Обхватив голову руками, я сидела и думала. Аборт – это уж слишком. Этого нельзя допустить. Хватит с Любы и того аборта, после которого началась дисфункция, постоянные депрессии и истерики. Я любила свою сестру, с которой мы были очень дружны, провели вместе практически все детство. И даже сейчас работали вместе – продавщицами в самом большом магазине нашего поселка, Люба – в отделе промтоваров, а я – в продуктовом.
Сестру надо было выручать, и тетю Таню тоже – иначе с ней случится сердечный приступ. Как же быть?
С Любой мы всегда были очень похожи, только она была повыше ростом, худенькая, глаза у нее были светлее, и волосы короче. Она была моложе меня на четыре года, и так сложилось, что я была всегда ответственной за нее – иначе и быть не могло. Надо заметить, что я гордилась, даже упивалась своей ответственностью и своего рода «правильностью». Мне, что скрывать, нравилось, что, по сравнению с сестрой, у меня, как говориться, «все в порядке»: муж, дом, дети.
Мысль, которая пришла мне в голову была неожиданной.
— Любань, родишь по моему паспорту, ребенка я возьму. Только чтоб девочка была! – погрозила я ей пальцем.
Люба ошалело посмотрела на меня:
— Сдурела, что ли? У тебя четверо мальчишек, куда вам?
— А что ты предлагаешь? Аборт – плохо, и – не спорь – поздно. Одного аборта тебе на всю жизнь хватило – со здоровьем и головой проблемы, да и мать твоя не переживет, если узнает. А мне –то что? Одним больше, одним меньше. Вещичек детских много осталось, Саня мой детей любит. Ты иногда посидишь с маленьким, правда? Ясли открыть к следующей осени обещают – справимся, — бодро ответила я.
Пожав плечами, Люба ответила:
— В принципе, как знаешь. Мне и самой на аборт идти не хочется. Как подумаю, что кроху во мне растерзают – лучше уж руки на себя наложить…
Люба, заморгав, вытащила очередную сигарету из пачки.
— Ну, нет, Любаня. Не кури. Нечего дитя гробить, — я, выхватив сигарету, разломила ее пополам.
Полчаса мы с Любой, обнявшись, рыдали и думали, как поступить. В конце концов, решили пока ничего не говорить никому: ни Сане, ни сыновьям, ни, тем более, матери Любы, Татьяне.
***
Несколько месяцев пролетели, словно неделя.
Люба, легкая и грациозная, стала чуть медлительнее и неповоротливей, но живота практически не было видно. На пляж она не ходила, скрывая округлившуюся талию, а вот курить не бросила, как только я с нею не ругалась.
А мне даже обманывать, симулируя беременность, никого не пришлось — после четырех родов я так и не похудела, и, что беременная, что не беременная — выглядела почти одинаково. Третьего и четвертого сына я выносила и родила практически незаметно для всех, не афишируя свое «интересное положение». В поселке уже привыкли к моим беременностям и называли меня не иначе, как «мать-героиня», ожидая в любой момент очередного ребенка.
Сане, конечно, мы все рассказали. Муж мой был, что называется, «ни рыба ни мясо» и все воспринял со спокойным безразличием, лишь слегка удивившись.
— Ну… я не знаю, думайте сами, — ответил он, и взялся за свою фею в кокошнике: все свое свободное время Александр занимался чеканкой. Фигуры обнаженных девушек и необыкновенной красоты птиц висели на стенах нашего дома. И не только нашего, а, пожалуй, в каждом доме, в каждой квартире маленького поселка, где все друг друга знали и дружили с самого детства.
27 сентября 1971 года. День.
Трясясь и пыхтя, машина, на предельной скорости 80 км.в час, мчалась по неровному асфальту. До Москвы было, в общей сложности, 3 часа пути.
Я судорожно рылась в сумке – не было паспорта. Не было – хоть убей. То отделение, где он лежал, почему-то было пустым. Я посмотрела в зеркало на Любу, которая, корчась от боли, сидела на заднем сиденье. Свой паспорт, по которому должна была лечь в роддом Люба, я, видимо, забыла дома.
— Саня, я паспорт забыла, что делать? – спросила я мужа.
— Не знаю. Думай сама, — сказал он, глядя вперед, на дорогу.
Возвращаться было нельзя – не успеем. Судя по всему, Люба должна вот-вот родить.
— Любаня, слушай – я повернулась к сестре, — пойдешь в роддом одна, без документов, я забыла паспорт. Я забыла свой паспорт, слышишь? Скажи, что в гости к подруге приехала, и схватки начались. А паспорт мы тебе завтра подвезем. Прости, Люба…
— Ты сдурела…ааа… не могу, больно… А если меня не примут? – простонала Люба.
— Куда денутся? Не имеют права. Ты же вот-вот родишь.
Минут через двадцать Саня остановил машину.
Люба вышла и поплелась, держась обеими руками за низ живота, к двери, на которой было написано «Приемный покой», а мы с Саней поехали на Проспект Мира, где, в огромной коммунальной квартире, пустовала комната – наследство, оставленное Сашиной бабушкой, умершей год назад. В той квартире, состоящей из трех комнат, жила еще одна старушка, древняя и почти глухая, которой ни до кого и ни до чего не было дела.
— Все. Ты езжай домой. Антошка, наверное, детей из сада скоро забирать пойдет. Покормишь их, еда в холодильнике. А я тут побуду. Буду ждать, когда Любаня позвонит.
— Катерина. Я вынул твой паспорт. Подумай хорошенько. Зачем нам это надо?
Услышав это, я оцепенела.
— Как ты мог! Ты с ума сошел! Зачем ты это сделал!?! Завтра же привезешь мой паспорт!
— Хорошо. Как знаешь, — ответил Саня.
— Утром отправь детей в школу и садик, и приезжай завтра. Возьми отгул. Паспорт не забудь, а не то я с тобой разведусь!
— Ладно, — обреченно ответил Саня, и, чмокнув меня, вышел из комнаты.
Оглядевшись по сторонам, я вздохнула – кругом была пыль. Занавески, серые, словно грязные половые тряпки свисали с окна, стекла, мутные от копоти, почти не пропускали свет — окна выходили на Проспект Мира…
Стараясь унять волнение, я стала убираться в комнате.
Уже стемнело, когда раздался звонок в дверь. На пороге стояла Люба. Лицо ее было бледным.
— Ты? А где ребенок?
— Родился. Я родила почти сразу, как поступила. Потом очухалась, выкрала свои вещи и приехала, — сказала Люба, вздрагивая.

— А ребенок?!? — закричала я.
— Катя, давай оставим все, как есть. Документов нет – меня никто не найдет, — сказала Люба, умоляюще посмотрев на меня.
— А ребенка что – бросим? Сдурела? Кто родился?
— Мальчик, — ответила Люба и вздохнула.
— Мальчик… обалдеть. Ну, ладно – хорошо. Хорошо, что платьица покупать не надо, — сказала я и улыбнулась.
Через час я вернула Любу обратно в роддом. Никто не заподозрил ее отлучки: Любаня без особых услилий влезла в окно первого этажа, откуда и сбежала – через туалет.
На другой день Саня под видом мужа навестил Любу, передал ей мой паспорт, а еще через четыре дня Люба, держа на руках крошечного сына, сидела в чисто прибранной комнате на Проспекте Мира.
— Почему маленький такой? Два с половиной килограмма. Говорила – не кури! – сказала я, покачав головой.
— Катя, все, я поехала, — сказала Люба, положив ребенка на старенький диванчик.
— Как? Куда? – спросила я, вытаращив от удивления глаза.
— Домой.
— Ты чего? Я всю жизнь решаю твои проблемы, а ты? Ведь это же твой ребенок?!?
— Но ты сама предложила решение этой проблемы. Теперь он – твой.
— Да, но ты же мать! Как назвала-то?
— Как угодно – хоть Ваней, — сказала Люба, вытащила из сумки пачку сигарет, и, прикурив, помахала мне рукой на прощанье.
Я взяла в руки ребенка. Он крепко спал, смешно и скорбно сжав маленький ротик.
— Катерина, давай ты подумаешь. Нужен ли нам еще один ребенок?
Я вздрогнула, услышав вопрос Александра.
— Но он уже есть – вот он! Куда теперь – по документам я его мать, вот справка с номером моего паспорта!
Недоуменно пожав плечами, я задумалась: впервые за девять лет нашего брака Саня высказывает свое мнение, а это, наверное, что-нибудь, да значило!
— Катерина, справку эту можно выбросить. Ты в Москве родила, а не в нашем поселке – никто ничего не знает и искать тебя не будет!
— С ума сошел? А ребенок? – закричала я.
— Ребенка можно пристроить куда-нибудь, — тихо сказал Саня и опустил голову. Давай сделаем так: я поеду домой, к детям, а ты побудь здесь. И подумай хорошенько.
— Никогда! Это мой племянник!
— Ну… решай сама, — ответил Александр.
Оставшись одна, я сидела, глядя в окно, на проезжавшие друг за другом, словно вагончики бесконечного поезда, машины. Что делать?
Ваня запищал, тоненько и жалобно. Я открыла приготовленную заранее банку с козьим молоком, перелила его в бутылочку, сверху одела резиновую, похожую на морковку соску, купленную в аптеке, и стала кормить мальчика.
Мальчик. Получается, пятый мальчик, а я так хотела девочку! Что за напасть. Гошка, младший, только что пошел в садик, а мне теперь снова в декрет – прощай, работа! Недолго я была свободной женщиной…
Размышляя, я кормила Ванечку и смотрела на него – на маленькие ручки, выбившиеся из пеленки, на крошечный носик… пока случайно не наткнулась на его глаза, и, вздрогнув от неожиданности, словно очнулась – взгляд Вани был необычайно серьезен, и – в это невозможно поверить – он смотрел на меня с любовью! С такой любовью, как смотрели на меня мои сыновья! Будто бы я была его мамой!
В душе моей будто что-то защемило, и из глаз хлынули слезы, насквозь промочив Ванину пеленку…
Вечером позвонил Саня. Случилось непредвиденное – старший, Антон, сломал ногу, перелезая через забор.
— Приезжай скорей, забери меня! Как Антошка? – кричала я в трубку.
— Он спит уже. Гипс наложили. Ты успокойся. И подумай хорошенько, насчет нашего разговора.
Ночью Ванечка спал хорошо, проснулся лишь под утро, попил водички и снова уснул.
Я сидела и рассматривала его. Обычный младенец, только большое темно-розовое родимое пятно на правой ручке, от безымянного пальца до мизинца. Поцеловав Ванину ручку, я улыбнулась. Большие глаза. Симпатичный. Но не похож на нас с Любаней – вылитый Армен. А что, если все поймут? Вдруг будут смеяться над нами?
Мои размышления прервал Саня, который неожиданно, без звонка, приехал в Москву.
— Катя, у Гошки ночью поднялась температура. Я позвонил твоей подруге, Люське, она пришла, сидит с детьми. Собирайся домой.
Я схватилась за сердце.
Саня протянул мне тоненький шнурочек с маленьким медальончиком, на котором по кругу крошечными буквами было написано «Иван» и «сентябрь», а в середине число 27. Вот умелец, и когда успел отчеканить?
Ванечка открыл свои огромные глаза с длинными ресницами, посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Улыбнулся грустно и ласково, словно ободряюще.
Гошенька заболел, Антон сломал ногу. А теперь еще есть Ваня. Сейчас не до Вани совсем!
Я одела шнурочек с медальончиком на шею Ванечки, трясущимися руками собрала его вещи, и мы сели в машину.
Два часа, сидя в машине, я проплакала, прижимая Ванечку к груди. Мы уже почти подъехали к нашему поселку.
— Катерина…
— Отстань, Саня! И так тошно, горько! – рыдала я.
— Ну… как знаешь...
Больше Александр не сказал ничего.
Я была в отчаянии. Ваня крепко спал у меня на руках. Вдруг, увидев забор монастыря, я крикнула:
— Остановись! Останови машину!
Саня резка затормозил.
Когда машина остановилась, я вышла, крепко прижимая Ваню к груди, и пошла к воротам монастыря.
Ванечка проснулся и посмотрел в мои глаза с любовью и нежностью – так, как может смотреть ребенок на свою любимую маму.
— Он смотрит на меня! – оглянувшись, сказала я Сане.
— Еще бы. Ты же его кормишь. Это инстинкт, — ответил он.
Вздохнув, и стараясь не смотреть на мальчика, я быстро подошла к воротам, аккуратно положила Ваню на огромную сумку с детскими вещами и пеленками, и дернула за шнур.
Звон колокольчика показался мне оглушающим, и я со всех ног кинулась к машине.
Отъезжая, я видела, как женщина в длинной черной одежде бережно берет на руки Ваню.
Следующие несколько часов я провела в бешеном ритме, сбивая температуру Гоше, принимая врача, успокаивая хныкающего Антона, у которого болела нога, проверяя уроки пришедшему из школы Диме и потом, оставив их одних, побежала в детский сад за пятилетним Сережей.
В начале второго ночи, уложив детей, убравшись на кухне и перестирав накопившееся за время моего отсутствия белье, я отчетливо поняла, что совершила нечто непоправимое.
Опустившись на кровать, где уже давно спал Саня, я уронила голову на колени. Я не могла даже плакать – слез не было. Мое ледяное сердце было сухим.
Я вспоминала глаза Ванечки. Его взгляд, когда я положила его на сумку с вещами – доверчивый, полный любви.
Просидев до рассвета, я, тяжело поднявшись, поплелась на кухню.
Наступил новый день. Началась моя новая жизнь. Жизнь женщины, которая бросила ребенка. Я включила воду, умылась и, наконец, разрыдалась.
Пару дней я ходила, как в тумане, ничего не соображая, растворившись в заботах, детях.
На третий день, уложив днем спать Гошу, я пошла к монастырю, четко решив вернуть Ванечку.
Было тошно, стыдно, страшно…
Калитку открыла пожилая монахиня.
— Служба начнется через два часа, — сухо сказал она.
— Извините… В понедельник я оставила здесь новорожденного мальчика…
— Здесь нет новорожденного мальчика, — ответила монахиня.
— Как же? Где он? – спросила я. Губы у меня задрожали, и я заплакала.
— Простите, у меня нет времени – пора на молитву, — с этими словами она прикрыла калитку и, поклонившись мне, удалилась.
Ворота, в которых находилась маленькая калитка, были решетчатые, сквозь них виднелся монастырь. Я долго стояла, глядя, как фигура в черном скрылась за углом одной из построек.
Ваня, Ванечка… прости меня, прости. Тебя бросила родная мама, потом ты решил, что мама – это я. И я тоже бросила тебя, я тебя предала.
Я ничуть не лучше Любани. Я даже хуже. Хуже, потому что знала, КАК ребенок смотрит на свою мать, и, тем не менее, предала. Предала…
На другой день появилась Люба. Узнав, что сына я отдала, разрыдалась.
— Почему, как ты могла? Я хотела его видеть, быть с ним иногда, — упрекала она меня, и смотреть на нее мне было невыносимо больно.
— Люба, скажи, где ты была, когда заболел мой Гошка, когда Антон ногу сломал? Разве ты пришла помочь моим детям, зная, что я с твоим сыном в Москве, что я не могу отлучиться от него?
Но, нападая на Любу, я чувствовала, что все-таки не имею оправдания. Нет оправдания мне, женщине, бросившей Ваню, который смотрел на меня, как ребенок смотрит на мать…
Нет оправдания мне, не давшей шанса своей сестре ощутить себя матерью хоть на минуту, взяв на руки своего ребенка…
Безутешно плача, Люба ушла через час.
Трехлетний Гошка забрался ко мне на колени, взял лицо в мои руки, и посмотрел мне в глаза. Таким же взглядом, как Ванечка. Я заревела в голос, испуганный Гошка слез с колен и побежал к отцу с криком:
— Мама пачит! Мама пачит!
Месяц спустя, когда листья уже опали и наш поселок окутал сырой осенний туман, я взяла с собой деньги, отложенные на покупку стиральной машины «Чайка», и пошла к монастырю второй раз.
Ворота открыла другая монахиня, совсем старенькая.
Не выдержав, я рассказала ей все – как осуждала Любу, как отказалась от Вани, не справившись с трудностями.
— На все Воля Божья, милая. Не плачь. Без Воли Божьей ни один волос с голов наших не упадет.
— Но ведь то, что я предала Ваню – это не Воля Божья, а моя трусость, слабость? – спросила я.
— Обстоятельства, испытание, которое ты не вынесла. Значит, на то Воля Божья. А Ванечке сейчас хорошо. Он счастлив, поверь мне.
— Можно его вернуть? Можно его хотя бы увидеть? – зарыдала я.
— Для чего, милая? Вернуть – нет. Увидеть – зачем? Или тебя это утешит? Оставь все, как есть. Ладно, скажу тебе… Ванечку в тот же день увезла семья священника, гостившая у настоятельницы. И будь уверена, что Ваня теперь счастлив, — сказала она и ласково погладила меня по плечу.
— Возьмите хотя бы эти деньги, — попросила я.
— Ну, хорошо, милая. Во Славу Божию, — ответила она и, попрощавшись, закрыла ворота.
С тех пор я стала ходить в монастырь часто, каждую неделю. Изредка разговаривала со старенькой монахиней – она выходила не чаще, чем два-три раза в месяц. С другими не общалась – мне казалось, что они смотрят на меня строго, будто все знают...
***
Время летело быстро, словно ветер, перелистывая страницы книги, один день сменял другой, за ним так же незаметно пролетал третий…
***
Пять лет спустя, когда старенькая монахиня умерла, я воцерковилась, и на воскресных службах встречалась с тетей Таней, которая по-прежнему ничего не знала о случившемся.
Гошенька, младший, ходил со мной, а еще через три года его взяли в алтарь.
Я по-прежнему переживала, вспоминая Ванечкины глаза, и, даже родив долгожданную дочку девять лет спустя, не смогла забыть его любящего и все понимающего взгляда.
Любаня так и не вышла замуж, но тоже родила девочку, которую нянчила то я, то старенькая, страдающая артритом тетя Таня. Наши дочки были неразлучны, как и мы с Любой.
У обеих девочек жизнь сложилась хорошо: они поехали в Москву, поступили в один институт, и даже почти одновременно, с разницей в три месяца, вышли замуж.
Сыновья мои тоже давно выросли, старший, Антон, стал военным, Дима работал шофером. Сережа был менее удачлив, выпивал, подрабатывал грузчиком, а Гошенька окончил семинарию и стал священнослужителем.
Он часто приезжал ко мне, чаще, чем остальные дети, и рассказывал о своем служении, и о нашем епископе, который был исключительный человек – он восстанавливал храмы.
27 сентября 2010 года.
Собираясь сегодня в монастырь, я особенно волновалась. Не потому, что именно сегодня в нашем монастыре служит епископ. А потому, что, несмотря на то, что прошло почти сорок лет, я помнила, как предала Ванечку, словно это было вчера…
А сегодня у Ванечки был День Рождения.
Я заколола свои побелевшие волосы, повязала на голову платок, и пошла на службу.
Служба сегодня была красивой и благодатной, как никогда. Жаль, что я уже совсем плохо вижу – молодые монахини рассказали мне, что почти восстановили росписи в храме. Наверное, красота…
После службы, как обычно, все идут целовать крест и руку батюшки.
Увидев руку, державшую крест, я закричала:
— Прости меня, Ванечка! Прости меня!
Рука, державшая крест, с родимым пятном, от безымянного пальца до мизинца, вздрогнула…
— Ванечка…
Автор: Елена Живова