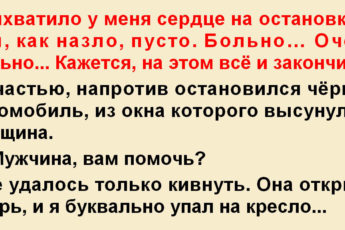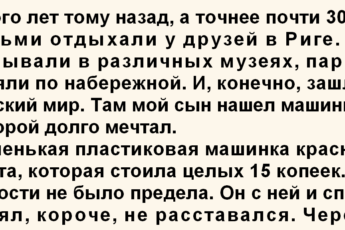— А вот ту раньше родник был, — тыкая палкой в землю, говорил дед.
— Был? А куда же он исчез? — спросил я, помогая деду присесть на бревно.
Долго мы шли до этого хутора, полтора часа, не меньше. Я предложил деду поехать на машине, хотя бы то расстояние, которое можно ехать по просёлочной дороге. Но он же упёртый. Говорит, что мы скоро в уборную на машинах ездить будем. Да, он у меня такой, за словом в карман не полезет и всю жизнь бегает на своих двоих. Сейчас, правда сдавать стал, ноги уже не те, но, если можно куда-то идти ногами, то он лучше тихо будет ковылять, опираясь на свою палку.
Вот и сюда его тянет каждый год. Оно и понятно, ведь здесь его родина, здесь была его деревня, в которой он родился, вырос, и из неё же тринадцатилетним пацаном хотел в сорок третьем уйти на войну. Да не брали его, говорили, чтобы мамку дома защищал, да сестёр младших берег.
— Дык в землю опять родник ушёл. Схоронился от зла, да от крови невинной. Земля-то, она к человеку со всей душой, всё ему отдаёт без утайки. Своими богатствами делится и платы не просит, а только уважения, да чтобы мир, да любовь вокруг были. Но война же проклятая никого не щадит и ни к кому уважения не имеет.
Вон там, — дед показал рукой на заросший бурьяном холмик, — жила повитуха Анна. Все бабы к ней бегали из близлежащих деревень. А всё потому, что руки у неё золотые были. Я-то сам не знаю в чём там её руки были золотыми, но довелось и мне за ней бегать, когда мамке срок родить сестрёнку пришёл. Папка в тот день с самого утра в поле на комбайне пшеницу жал. Мне в тот год лет восемь было что ли, мал ещё,чтобы с папкой в поле выходить.
А мамка варенье варить затеяла. Стоит возле уличной плитки, одной рукой живот держит, другой варенье в тазу мешает. Тут у неё ложка из рук падает и она сама к земле склоняется.
— Ой, сыночек родненький, беги скорее за Анной. Кажись пришёл мой срок, — стонет она, обеими руками хватаясь за живот.
Страшно мне так стало. Никогда же не видал, чтобы мамке так больно было. Побежал я на край деревни, где Анна жила, так быстро, что аж ветер в ушах свистел. А обратно мы уже с ней бежали.
Она в хату меня не пустила. Велела снять варенье с плитки, да на его место поставить чугунок с водой.
Ну, а через час я услышал плач своей младшей сестры.
Золотые руки у Анны были, ничего не скажешь.
А когда немец-то пришёл в нашу деревню, то они сначала бомбами нас обкидали, партизанов из лесу хотели вытравить. Вот одна из них аккурат в дом Анны и угодила. Только ямка от дома и её самой и осталась. А на следующий день они в деревню пришли и согнали всех баб, стариков и детей в центр, да расстреляли. Мамка меня с сестрами, когда только услышала, что они идут, в погреб схоронила. Да сначала тумаков мне дала, так как я хотел с вилами на немцев идти. Дурак же был, думал, что силён. Ума-то не было. Так вот, людей они расстреляли, ироды проклятые, а деревню сожгли. Хорошо у нас погреб земляной был, папке всё некогда было построить новый.
Мы там до ночи сидели. А потом вылезли, да при свете луны пепелище вместо деревни нашли.
Сестры-то мои есть хотят, да мамку ищут. А я же тоже ещё малец был, хоть и хотел взрослым казаться.
Так мы на утро в лес и пошли. Думаю будь что будет, или звери лесные загрызут, или партизаны подберут.
Вот так мы и попали к партизанам. А там была тетка Наталка, у которой немцы сына убили. Она-то нас под своё крыло и взяла. И как война закончилась, то записала нас на себя. Вот так я и остался жить в этих краях, но в соседней деревне.
А родник-то ушёл, ушёл под землю, как дом Анны бомба похоронила. Нет повитухи, нет и родника.
Мы ещё посидели некоторые время на месте родника. Дед смотрел на место бывшей своей деревни, которое захватил лес, и его серые, слезящиеся глаза блестели.
Каждый год он приходит сюда, как на братское кладбище, чтобы поклониться своей матери, которая спасла его и его сестёр, ценой своей жизни.
— Ну ладно, надо идти обратно, — сказал дед, надевая на голову картуз.
И мы пошли мимо пшеничного поля, над которым порхал жаворонок и пел свою пронзительную песню.
О чём была его песня я не знаю. Может быть, о том самом роднике с прохладной водой, который навсегда ушёл под землю, чтобы больше никогда не видеть зла.