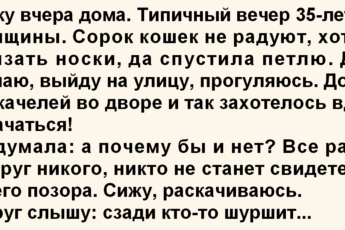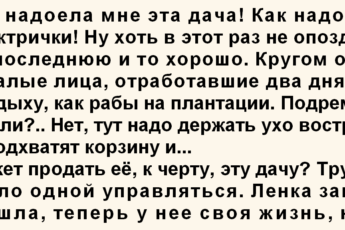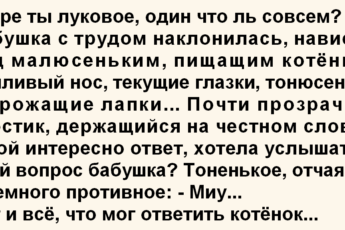В московской гостинице, где довелось мне однажды провести ночь, полно было немецких пенсионеров. Чистенькие, улыбчивые. Гуляют по миру: сегодня в Москве, завтра в Греции или в Австралии. Щебечут, вызывая во мне злобную досаду: они заслужили ухоженную, жизнерадостную старость, мы — нет. Ночь в «Украине» обошлась мне в две тысячи рублей — месячная зарплата воронежских врачей-учителей (начало 2000-х).
Какая тут Австралия, они в соседнем-то городе родных не навестят.
Возле дома я часто встречаю старичков — «дрожащие огни печальных деревень». Они собирают бутылки и банки. Мы почти с ними знакомы, я оставляю для них бутылки у подъезда и примеряю их старость на себя. Австралия, блин… Может, и я буду бутылки собирать. Или на рынке побираться.
Мы все тут без роду и племени. Лишенные наследства.
Матушка моя жила невпопад. Старость свою они с отцом встретили порознь: он уехал в деревню своего детства, а она осталась в старенькой городской квартире.
Ни малейшей ценности для туристического бизнеса матушка не представляла. Ее сбережения обесценились реформами, а при дележе страны достался ей ваучер ценой в бутылку водки. Не создала она для Родины ничего такого, чтобы получить взамен пристойную старость. Месячной ее пенсии хватило бы лишь на сутки в «Украине» плюс на метро проехать.
Всю жизнь она работала инженером в проектном институте, и в семье на всем экономили ради кооперативной квартиры. В прежние годы матушка много шила. На себя, на меня с братом, пока мы были младенцами, потом школьниками. А внуки ее родились к перестройке, и шитье на них было совсем невпопад. В магазинах всего полно, и внуки с внучками не желали носить сшитое бабушкой.
Давайте я вам что-нибудь подлатаю, предлагала матушка, вот курточка совсем ведь новая; ну дырка, а мы ее заделаем. На дырку нашивалась какая-нибудь аппликация, матушка приносила куртку, очень довольная, и просила еще что-нибудь дать ей в ремонт. Давайте носки заштопаю или вот эту маечку зашью…
Она приходила к нам и держала в руках газету, иногда пыталась читать ее, надев очки, но быстро утомлялась. Порой засыпала в кресле, а я думал: «Ну, мам, что б тебе дома лечь в постель и спать, спать сколько хочешь…». Нет, приходила и засыпала у нас. Потом встрепенется: «Ну расскажи мне, расскажи, как твоя работа, чем ты сегодня занимался?»
Сдерживая раздражение, я говорил ей, сволочь, одно и то же: «Ну что, мам, да как всегда. Встал. Умылся. Позавтракал. Пошел в редакцию. Встречался с разными деятелями — бизнесмены там, политики, чиновники. Общался и с нормальными людьми: учителями, врачами, просто жителями, жертвами ЖКХ или чиновников. Работал дома за компьютером».
И каждый раз матушка счастливо улыбалась, гладила меня по руке или спине и говорила одно и то же: «Ой, ну как же хорошо, как я люблю, когда ты мне вот так рассказываешь!..»
Жена предлагала ей чего-нибудь перекусить с нами, и матушка обычно отказывалась — нет, ой, что вы, я такая сытая! — но потом мы ее убеждали: это и не обед вовсе, а так, под разговор, и она соглашалась и ела, нахваливая. А мне было вечно некогда сидеть с ними, нужно было зарабатывать на большую семью, и я шел к компьютеру и иногда приходил к ним на кухню, чтоб выпить вместе чашечку кофе; я вот он, просто дела отвлекают. Хотя какие уж там особые дела…
Разговоры их были все о том же — детки, здоровье их и учеба и как страшно жить стало на свете. Обе — мамы, просто разных поколений, и порой разговор их сбивался на тему справедливости: ты детям всю душу, а они… Чем взрослее, тем несправедливей. Как в притче о злой девушке, которая сказала влюбленному в нее парню: хочешь, чтоб я поверила в твою великую любовь? Докажи — принеси мне сердце твоей матери. Он пошел и вырвал сердце матери, побежал обратно, споткнулся и упал. И сердце материнское спросило его: ты не ушибся, сынок?
Притча казалась мне наивной до идиотизма, но однажды мы с женой были одни и смотрели телевизор, и там кто-то повторил эту притчу; я видел, как сжались ее руки, а лицо опухло и стало некрасивым, она широко раскрыла глаза и не шевелилась, чтоб слезы не упали.
Иногда в матушкиной квартире что-то ломалось, и она робко жаловалась по телефону, извиняясь, что отнимает время. И очень радовалась, когда я или брат приходили к ней починить телефонный шнур или смеситель в ванной. Суетливо накрывала стол: чай, дешевое печенье — и вела все те же разговоры: ну расскажи, сыночка, каким был сегодня твой день. А потом не раз звонила по телефону: «Ой, да спасибо вам, мои хорошие, ну как же замечательно у меня теперь все стало, а то я уж и не знала, что делать. Ой, да какие ж вы молодцы у меня, умные и умелые!..»
Одевалась матушка по принципу «мне этого достаточно». Нас с братом даже укоряли за глаза: мол, приличные люди, а матушка их в тряпье каком-то ходит. Мы ее допрашивали: мам, давай мы тебя в санаторий отправим, пальто купим или сапоги новые, но ей ничего не было нужно. Мы что-то покупали, а она прятала это в шкаф.
Однажды слух дошел, что она просила милостыню на рынке — к позору двух благополучных сыновей и к полной нашей растерянности. Ну что с ней поделаешь?! Она старалась хоть что-нибудь оставить после себя детям. Наследство — как свидетельство, что она жила в этом мире.
Квартира, например, — старая «брежневка» в доме, в котором начинают обваливаться балконы. Какой уж тут «родительский дом»… Одно пепелище. Жизнь ее уместилась в несколько коробок: старые вещи, смысл которых был ясен только ей, и пакет с фотографиями. Юная, молодая, дети, родственники, друзья, сослуживцы.
На фотографиях она была школьницей, чьей-то первой любовью, невестой, и вся жизнь была у нее впереди. Я сидел у нее на руках ангелочком в белых кудряшках, и тогда она не знала, что однажды я приду, а она, старая и беспомощная, будет лежать на полу в жалкой ночной рубахе.
Брат позвонил: что-то не так; мы тут зашли к матери, а она храпит в туалете и дверь не открывает. А тут и жена моя нервничала: мать, мол, обычно каждый день звонит, а вчера — нет. И сегодня не звонила… Мы быстро собрались и поехали.
Она не храпела во сне, когда брат нашел ее. Она хрипела. Инсульт. Душа ее уже покинула тело, но вернулась, когда пришли сыновья, и пыталась подать им знак.
Сутки или двое она провела в узком туалете, в котором дверь открывается внутрь. Брат выломал дверь — матушка лежала на пороге. Вызвали «скорую». Мы пытались ее поднять, а она говорила сквозь окоченевшие губы: «Бо-на, бо-на». Мы понимали, что больно, и не знали, что делать. Иногда она открывала глаза, но в них ничего не отражалось. Мы ходили по квартире, стояли возле матушки, смотрели на нее. Потом догадались: подоткнули одеяло под ее неподвижное тело и перенесли на диван.
Прохладный зал в больнице, и она лежала там под капельницей на тележке среди других умирающих. Голая старость, накрытая простыней. Живому там было бы холодно. Я трогал ее руку и говорил: «Мам, это я». Пальцы на ее правой руке вздрагивали, она дышала чаще, но глаза ее больше не открывались. Будто кто-то махал платочком с отплывшего корабля — туман его поглощает, уже ничего не видно, только эхо доносится. Зря, наверное, я звал ее. Мучил только.
Ей повезло: она не загрузила родных и близких тягостной болезнью на годы, чтоб подавать утку, кормить с ложечки и мыть ее неподвижное тело… Ей повезло: она умерла в три дня. Скоренько так, чтоб не отрывать нас от важных дел. Но я и теперь слышу, как там, за туалетной дверью, капало время: пять минут, полчаса, ночь, утро, день, еще ночь…
Может, в эти длинные часы она вспоминала, как долго умирала ее мать. Вся семья тогда была прикована к слишком узким вратам: бабушка никак не могла в них протиснуться, хотя была очень худой. В детстве она казалась мне противной старухой. Все следила, учу ли я уроки.
Я помню: когда матушка умирала, когда умерла, и были похороны, крышка гроба у подъезда, соседи, яма, крест, — я машинально что-то делал и говорил. А через неделю после похорон мы с женой пошли на рынок, она подошла к киоску за ветчиной, а я стоял рядом, и вдруг слезы потекли по лицу, будто что-то во мне проткнули, и я ничего не мог с этим поделать.
Жена молча обняла меня, бросив сумку, и прижалась, и какое-то время мы так и стояли с ней, обнявшись среди толпы, — два немолодых уже человека.
Подушка со снами: от кошмаров до блаженных полетов. В снах есть места, где я никогда не бывал наяву, а во сне узнавал их: здесь со мной уже что-то происходило… Встряхнуть подушку, перемешать — и что-нибудь выпадет. Рулетка такая.
Вот и выпало: я спускался по лестнице, а вдоль перил молча и неподвижно стояли люди. Среди них я увидел маму в длинном пальто, которого при жизни у нее не было. Я подошел и обнял ее, прижавшись щекой к ее щеке, и поцеловал волосы. Мы оба знали, что она мертва. У матушки подогнулись ноги: она не могла стоять — ведь у нее инсульт, и она так и не вышла оттуда; и я не знал, почему она оказалась здесь, в веренице живых людей вдоль холодной грязной стены. Она опустилась на каменный пол, и я поддерживал ее — как будто опускал в могилу.
В том сне мы и простились окончательно.
На годовщину с утра поехали с женой на кладбище. Зима в тот день была — как в новогоднем мультфильме. Хорошо там, на кладбище: полная тишина, снегом замело могилы и памятники. Мы не сразу нашли нашу могилку с березой. Расчистили дорожку и могилы мамы и бабушки, запачкав снег прошлогодней травой и ветками. Ну надо ж как-то отметиться. Постояли. Нарушать глубокий покой кладбища было кощунственно — может, кощунственнее даже, чем вообще не проведать маму на годовщину. Ворона присела на ветку, стряхнула маленький снегопад и долго разглядывала нас — молча и подозрительно.
Выпили по полрюмки водки, съели по конфете, бормоча ритуальное «царствие небесное», и пошли обратно. Снег повалил, засыпая наши следы.
Матушке ничего не нужно было от жизни. А если и было нужно, мы этого ей не дали. Были заняты благоустройством своих семей, а здесь всегда полно проблем. Она это понимала, но ей некуда было больше идти. Приходила и сиротливо заглядывала в наши семьи. Мы как бы заботились о ней, предлагали путевку или деньги, от которых она всегда пылко отказывалась. Однако долг перед родителями — святое дело, и нам удавалось деньги ей всучить.
После смерти она их нам вернула, оставив две сбер-книжки, завещанные на сыновей. И несколько коробок со старомодным добром; выбрать из них что-то для пользования или в качестве сувениров трудно, выбросить — святотатство. Оставили все там, в комнате, — кроме фотографий. Те, кто купил потом матушкину квартиру, наверное, выбросили эти коробки; мы с братом этого не видели.
Матушка уже знает разгадку самой главной тайны, а я — нет. Она не ходит ко мне во сне. Лишь один раз я видел ее, на годовщину. Она приходит почему-то к жене. И там, в темноте, они о чем-то шепчутся...

Автор: Александр Ягодкин