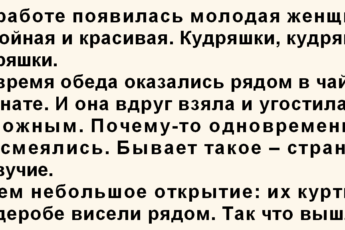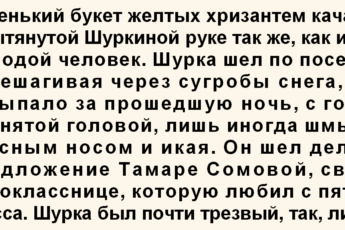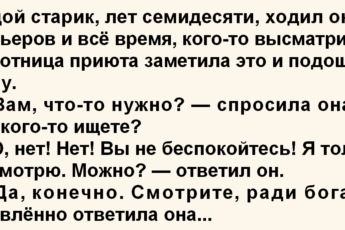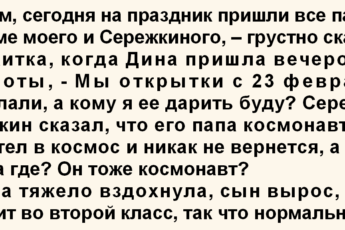Ранним утром весеннего дня у двухэтажного старого деревянного дома с разобранным давно на дрова крыльцом стояла женщина. Темные волосы её под лёгкой косынкой были старомодно уложены кольцом вокруг головы. Она была одета в ватник, узкая её талия перетянута солдатским ремнем, за спиной наплечный мешок. На окна второго этажа она смотрела боязливо.
Но вот тяжело вздохнула, в глазах блеснул лихорадочный огонь – она перешагнула порог дома. Поднялась на второй этаж на ватных ногах и повернула влево по коридору.
Эту комнату муж получил ещё до войны. Здесь и Зиночка у них родилась.
В коридоре напротив показалась глазастая старушка. В коротком пальто поверх ночной рубашки, от подола до старых калош белели голые дряблые худые ноги.
– Ктой-те это? Господи! Неужто Ольга вернулась!
Женщина присмотрелась, узнала соседку.
– Я, тетя Ксень. Я...
– От ведь! А я говорила Федьке – гляди, Федька, жена приедет! – она качала головой, – Живая, значит... Хорошо...
Ольга сделала несколько шагов к старушке.
– А Вы как тут? Живы, здоровы?
– Та какая жись! Не померли – и ладно. Голодали... Ох, голодали, Оленька! Вот только Федька твой и жирует. Но тоже досталось ... Порезало его ведь ...
– Чего?
– Не знала что ль? На заводе рука в станок попала, нету топерича пальцев у него на правой руке. Но хоть рука осталась, и ладноть ... Катька его и выходила. Она так-то не жадная, в столовке работает, потому не пропадут оне..., – старушка опомнилась – кому говорит, махнула рукой, – Ой, не слушай меня, дуру старую. Стучи, дома оне ... спят.
И старушка пошлепала калошами по лестнице на двор, что-то про себя приговаривая.
На Ольгу опять накатила боязнь, но она смахнула её.
Чего она, не домой что ли вернулась? Что муж живёт с другой, она узнала ещё в лагере. Не поверила сначала, да и сейчас до конца не верила. Все считала это ошибкой. Но с ним осталась дочка, которую не видела она четыре с лишним года. И это её дом по закону, а не какой-то там пришлой Катьки ...
Она глубоко вдохнула и решительно постучала. Потянулись тоскливые мгновения. Никто не откликнулся. Комната была глуха и к стуку в дверь, и к громкому стуку сердца Ольги.
Она постучала ещё раз. И, наконец, из-за двери она услышала знакомый голос, и хотя он был тихий и сонный, Ольга узнала его сразу – Федор.
– Кого черт принес? Поспать дайте, ироды!
У Ольги перехватило горло, она тяжело задышала, сжала твердые тёмные губы, не смогла ничего сказать. Стояла молча.
В комнате – тишина.
По лестнице застучали калоши тети Ксении.
– Чё? Не пущают?
Ольга пожала плечами, отошла и привалилась к стене. Старушка подошла к двери, постучала, и, приблизив старое свое лицо к щели, громко крикнула:
– Федька, открывай, жена вернулася.
Заскрипела кровать, кашель.
– Я тебе сейчас пошуткую, бабка! – внутри зашаркали шаги, стук крючка, скрипнула и открылась дверь, Федор в белой майке и трусах стоял на пороге.
Ольгу, стоящую в стороне, заметил не сразу.
– С ума сошла, дай поспать! Чай, выходной, а ты ..., – но тут его глаза поднялись, и он увидел провалившуюся к стене жену, – Ольга! – выдохнул,– Ольга!
Он пошатнулся и шире открыл дверь. Тетка Ксения перекрестилась и пошла к своей двери.
– Приехала, значит..., – похоже Федор убеждал сам себя.
Он отступил вглубь комнаты, пропуская Ольгу. Она прошла совсем рядом с ним, почувствовала запах тела мужа. Давно забытый запах.
Не виделись они четыре долгих года.
Ольга огляделась. Все та же мебель – светлый деревянный шкаф, самодельный стол под кипельно-белой скатертью, стулья в накидках, швейная машинка, детская кровать, сооруженная из старого сундука, с накидушкой на треугольно поставленной подушке.
Чистота и порядок.
Вот только кровать железная за шторами на натянутой верёвке. И там скрипели пружины, кто-то вставал.
Зиночка? Или...
Ольга решительно и благостно сняла кирзовые сапоги, ноги ее болели от них. Ещё там, в лагере, все мечтала – вернётся и больше никогда их не наденет.
Очень хотелось сорвать эту штору и увидеть дочь, обнять... Но время и лагерная дисциплина научили ее выдержанности, да и детского присутствия там не ощущалось. Детская кровать – вот, убранная.
Она отодвинула стул и села, начала расстёгивать ремень, раздеваться.
Федор тоже нырнул за штору, лёгкий шепот, вскоре вышел он уже в брюках и рубашке, виновато улыбнулся Ольге, взял что-то из шкафа и опять на секунду нырнул за штору.
Потом сел на стул напротив.
– Приехала, значит... , – повторил.
– Да, приехала. Амнистия. Отпустили нас, тех у кого дети. Зиночка где?
– Так, ...– Федор распрямился, – Все хорошо у нее. А ведь выходной нынче, так вот к бабке отправили. Пусть дитя молочка козьего попьет. А так-то ведь в школу вот пошла. В первую... Хвалят ее там, вон ..., – он махнул рукой на шторку перед кроватью и осекся.
– У какой бабушки? – спросила Ольга.
– Так ведь у тетки Шуры, это мать ... – он опустил голову, провел ладонью по седым уже волосам и обречённо договорил, слегка махнув на штору, – Катеринина, вон, мать.
Во взгляде его не было вины, только какая-то грустная житейская констатация и озабоченность.
И тут штора отодвинулась и деловито поправляя почти оправленную кровать показалась женщина. Она спокойно разгладила складки на покрывале, повернулась к ним и резко и несколько вызывающе произнесла:
– Здрасьте!
Ольга увидела миловидное круглое лицо, выщипанные и подведенные брови, черный лоск волос, убранных в скорый пучок, пышное тело. Катерина была в синей кофте и цветастой юбке. Поджав губы, она повязывала на голову платок.
Она подошла к столу, живо стащила скатерть.
– Угощай тут, а мне на работу. Зину в обед приведу.
Она ещё собрала что-то в холщовую сумку, деловито расхаживая по комнате мимо них, и ушла, не прощаясь.
Ольга наблюдала за ней. Была Катерина полна, налита и молода.
Ольга подумала о себе. Она за лагерные годы совсем изменилась, наверное, в глазах Федора.
Она была высока ростом, и всегда гордилась этим, но сейчас сама себе напоминала оглоблю. Лопатки выпирали , грудь едва заметна, а колени и локти округлились и обтянулись загрубевшей кожей.
Она, по-прежнему, была мила лицом, вот только темные круги под глазами уже не пропадали даже после сна.
Федор накрывал стол. Достал из-за окна пакет, из-под стола банки. Ловко орудуя левой здоровой рукой и придерживая правой, нарезал вяленое мясо, соленые огурцы, хлеб. Носил все под локтем.
Ольга сглотнула слюну. Ехала она больше двух суток, а нормально ела только первые. Да и мясо вот так не ела уж лет сто.
– Голодная чай? Давай, поешь! – предлагал Федор.
И Ольга пошла к рукомойнику, сполоснула руки и принялась за еду.
Федор смотрел на нее жалостливо.
– Ты не писала последнее время. Думал, может ... может уж жись своя у тебя там.
Он погладил себе лоб искалеченной рукой и Ольга только сейчас как следует разглядела её.
– Я писала, но не знала, что тетя Сима померла. Да какая там жись! Я домой хотела. Думала, вернусь, семья...
– А я вот стервец такой, да?
Ольга молчала, хлебала чай.
Федор сидел, уронив руки и смотрел за окно.
– Мы голодали тут сильно, Оль. Зина маленькая, а мне работать. Стал ее с собой на завод брать, ревела одна-то дома, а соседи тоже, знаешь ли... Голод ведь, кормить нечем, самим бы прокормиться, а с голодным-то ребенком как? Смотрю – сохнет она у меня, животом мается. А там она в столовке со мной и перекусит.
Катерина начала ее оставлять потихоньку, она ж в столовке работает в нашей. Подкармливать начала. Страху натерпелись, конечно. Ты вот за что села? Да ни за что... Вот и Катерина боялась. Но Зинка наливаться начала, ожила так, в куклы заиграла. А потом ... а потом я вот, – он махнул искалеченной рукой, – И меня выходила. Так и сошлись.
– А сейчас она какая?
– Кто? А Зинка-то? Какая? Боевая, мальчишками вон во дворе порой, смотрю, командует. Учиться хорошо, хвалят, Катерина говорит.
– У нас письма раз в месяц забирали. Я писала Симе, чтоб она тебе приносила и читала. Уж потом мне Колька отписал, что умерла тетка Сима и письма мои не носила тебе.
– Давно уж померла, два года как. А я решил, что сгинула ты, или жись своя там..., – оправдывался Федор.
– Ага, ждал, что пропаду, а я вот явилась, как снег на голову, – Ольга развела руками, улыбнулась горько.
Федор вскочил с табурета.
– Да что ты, Оль! Я ж... Если б думал. А так...
Он подскочил к ней, приподнял за локоть и обнял, прижал к себе, притиснул ее такое исхудавшее тело, прижал, чтоб ушло ощущение ее худобы и горести, чтоб передать ей часть самого себя.
Они долго так стояли, он потерся щекой о ее знакомую с юных лет косу вокруг головы, погладил здоровой ладонью ее волосы.
Она подняла на него затуманенные слезной пеленой глаза.
– Приведи мне Зину, Федь. Пожалуйста, приведи...
– Чего делать-то будем, Оль?
– Приведи Зиночку.
Федор опустил ее, засобирался.
– Ладно, приведу. А ты легла бы. С дороги ведь.
– Лягу...
Федор быстро и ловко одной рукой заправил брюки в носки, натянул сапоги, чуть не спутав сапоги с Ольгиными, накинул фуфайку и, немного задержавшись, оглянулся, как будто проверял – не померещилось ли, правда ли Ольга здесь.
А она подошла к окну. Смотрела на сутулую фигуру мужа, скрывающуюся за аркой. По всему было видно – плохо и ему.
Она села на постель дочки, стянула накидушку и легла, вдыхая запах, стараясь вспомнить родное, убеждая себя, что помнит.
Когда осудили ее на десять лет Зиночке не было и четырех. А теперь уж восемь. Нашли у нее припрятанную под койкой вот этой, что за шторкой сейчас, кукурузу. Неполный мешок.
Удружила ей знакомая с работы– позвала на станцию, а там народ кукурузу из открытого вагона по мешкам рассовывает. Времена голодные...
Все волокли, и она. Дочку кормить, поменять может на хлеб.
Десять лет дали. Человек восемьдесят тогда из их городка судили одним судом.
В щель вагонную она все на Зиночку смотрела, махала. А та глазками водит, не видит маму, к отцу прижимается.
Федор писать не умел, читал с трудом. Письма Ольга писала Серафиме – родственнице. С ее слов и знала, как дела у мужа с дочкой. Вот только померла тетка уж давно. Ольга не знала, писала, но письма никто не носил уже.
Ольга села на кровати, сняла теплую кофту, подошла к шкафу, открыла его.
Чужое все... Вроде дома она. Там, куда так рвалась, куда ехала, где рассчитывала – наступит, наконец, покой, конец тяжёлой лагерной жизни, где почувствует она счастье. Ей всего двадцать девять.
Она дома, а и не дома. Другая здесь хозяйка.
Так вот у открытой дверцы шкафа и застала ее Катерина. Она резко шагнула в комнату, стянула с головы платок.
– Проверяешь? – сказала с сарказмом.
Ольга показала кофту.
– Положить хотела.
Катерина резво подошла к шкафу, двумя руками взяла белье со средней полки, переложила на кровать, потом ещё...
– Ложи...
– Да ладно, это необязательно, – Ольга свернула кофту и сунула на полку над вешалкой у двери.
Катерина, прямо в пальто села на стул. Ольга стояла в двери.
– Я стараюсь, чтоб порядок был. У меня и Федя и Зиночка ухожены, знаешь как!
– Я вижу, у вас чисто.
– Ага, у меня и в столовке ни соринки, все начальство удивляется.
– Хорошо...
И тут Катерина вскочила и в два шага оказалась возле Ольги.
– Уходи, а! Уходи али уезжай лучше. Хорошо ему со мной, понимаешь? Ему ни с кем так хорошо не будет, как со мной. И Зиночку оставь нам. Я ж застуженная, не будет своих-то. А Зиночка меня ж мамкой считает. И все так считают, и в школе...никто ж и не думает, что не родная я ей. А тебя она не помнит совсем. Уезжай!
Грудной голос Катерины наполнен был страданьем. А смятение Ольги так велико, что она никак не могла взять в толк, о чем просит ее эта женщина. Лицо Катерины сейчас было нездоровым, оно ее пугало.
А когда, наконец, поняла, перевела дыхание, спокойно ответила:
– Я не уеду никуда. Я к дочке вернулась, к мужу и домой. Федя за Зиной пошел.
Катерина опустила от груди руку, платок упал на пол.
– Да знаю я, он в столовку забежал – сказал. Бабку сейчас огорошит. Знаешь, как она к ней привязалась – не переживет. Пойду к ней вечером, а то как бы не померла с горя, – Катерина бухнулась на стул.
– Разве это горе, коль живая мать вернулась? – Ольга шагнула к ней.
– Не уедешь, значит? – Катерина ее не слышала, она вся ушла в себя.
– Не уеду, – Ольга упрямо прошла мимо нее и села на дочкину постель, – Не уеду, а он пусть сам решает, с кем. Это его дело.
Катерина встала, повернулась к ней.
– Да что он решит! Самим надо. Давай сами решим, как быть тут.
– Это может решить только он сам.Только дочку не отдам. Зина – моя, а Федор пусть сам решает.
Катерина махнула рукой.
– Вот, значит, как? Ясно...он же любит дочку, он к тебе переметнется. Ты этого хочешь, да? Хитрая какая! Чё ты там за четыре года никого не нашла что ли? Говорят там мужиков сосланных тьма. А ты, прям, святая, прям, ни с кем! Такая ж как все – лагерная! – Катерина сказала, как плюнула.
Слова жёстко хлестали Ольгу, она закрыла глаза, вытянулась. Сколько слышала она криков и оскорблений в годы последние! Сначала пугалась, терялась и плакала от унижений – с сосланными не церемонились.
А потом научилась у тех, кто духом не падал и там, кто честь не терял, кто и в самых трудных испытаниях – оставался человеком с большой буквы.
– Есть еще время до смерти — значит есть и возможность жить по-человечески, – говорила Клавдия Сергеевна, репрессированная старая учительница.
Она так и жила. До самого своего конца, по-человечески. А Ольга была с ней до конца в старом бараке, впитывала.
– Вы потом пожалеете, Катя! Зачем Вы так? – Ольга сморщила лоб, как будто жалела собеседницу.
И Катерина, привыкшая к отпору криком, готовая ругаться, выбивать себе счастье хоть кулаками, озадаченно смотрела на Ольгу. И после небольшой паузы повалилась на кровать и завыла.
– О-ой! Нее забирай его у меня! Не забирай... Ты же столько лет без него жила, и дальше проживёшь, и без Зины ..., а я пропаду, не будет жизни мне...
Она раскачивалась, сидя на кровати, стонала, старалась жалостью вырвать уступку, вырвать женское свое счастье.
Схватить мешок и убежать отсюда на все четыре стороны хотелось Ольге очень.
Но она закрыла лицо руками, уперев локти в стол, и сидела так, не шелохнувшись. Она никуда не уйдет, пока не увидит дочку. Да и некуда ей идти. Родня только дальняя, да и забыли ее уж все.
Наконец, Катерина успокоилась, громко высморкалась, подняла с пола платок, повязала.
– Пошла я... ,– сказала напоследок и вышла из комнаты.
Ольга никак не могла собрать свои мысли, она ходила по комнате бесцельно и быстро из угла в угол, смотрела в окно. Ревности не было. Долгая разлука лишила права на ревность.
Как ни странно, но она понимала Федора. Он потерял надежду дождаться ее и жил своей жизнью.
Что же делать? Забрать Зиночку и уйти? Уехать в Витебск? Туда ее очень звала лагерная подруга Татьяна. Адрес помнит. Наверное, это выход.
Ольга автоматически переложила свои вещи ближе к выходу, засобиралась. Но потом опять села на детскую кроватку, прилегла и поняла, что смертельно устала. Так и лежала, опустошенная и растерянная, пока не уснула.
Проснулась от шуршания, звука лёгких шагов. В дверь вошла длинноногая девочка в зелёном клетчатом пальтишке, пушистом белом пуховом платке. За ней – Федор. Они тихо переговаривались, раздевались.
Ольга села на кровати.
– Вот, Зина! Мамка твоя вернулась.
Зина была похожа на нее в детстве. Тяжёлый, красиво заплетённый в две баранки волос, пронзительный взгляд, плотно сжатые губы.
Уезжала от малышки, а вернулась... Ольга не верила своим глазам, не смогла вымолвить ни слова, не смогла даже встать на ноги, они онемели. Хоть тысячу раз и представляла она эту встречу, но сейчас лишь протянула руки.
Зина растерянно оглянулась на отца и спросила:
– А мама где?
– Придет скоро, поздоровайся..., – Федор подтолкнул дочку к Ольге.
– Здравствуйте, – кивнула та.
– Зина! – голос сел, – Зин, ты забыла меня? – Ольга встала.
– Нет, я помню, – девочка опустила голову.
Ольга поняла, что бросаться в объятия не стоит – испугается Зина.
Она взяла ее за руку и усадила на стул, села рядом.
– А я тебя совсем маленькой помню. Расскажи, что помнишь ты?
– Я ... карусели помню, и как Вы...ты...как Вы меня с горки катали на санках помню, – она покосилась на отца, – А мама скоро придет?
– На работе она. Ты ж знаешь...
Федор сказал это, озабоченно глядя в окно, не оборачиваясь.
– Чего там? – Зиночка подскочила к окну, выглянула и помахала кому-то рукой.
Ольга подошла к окну тоже и увидела, как шарахнулась назад от ее появления старушка в каракулевом полушубке. Она качнулась назад, отвернулась и пошла прочь, припадая на одну ногу и с каким-то страхом оглядываясь на их окно.
– Бабка это, мать Катеринина, – пояснил Федор, – Говорил ей – не ходить, а она... Они не разлей вода с Зинкой. Переживает...
Зина так и осталась стоять у окна. И Ольга вдруг поняла, как тяжело сейчас ее дочке. Мир рушится... Была мама, папа, бабушка, и вдруг...приехала она. По сути – чужая тетка. Да ещё и амнистированная зечка, неустроенная и безденежная.
И тут же все и решила. Само решение пришло. Значит так!
Шепнула Федору, чтоб вышел. Подошла к дочке сзади.
– Зин!
Дочка обернулась, посмотрела на нее и опять опустила глаза.
– Зиночка! Я ненадолго. Я так скучала по тебе, вот приехала повидаться. Скажи, тебе хорошо с мамой твоей, с Катей?
Зина кивнула.
– Любит она тебя?
Зина кивнула опять.
– А никто тебя не обижает?
Зина мотала головой.
– Вот и хорошо, вот и ладненько. Так и живи. Учись хорошо, а я навещать тебя буду, помогать буду, чем только нужно. У меня, кроме тебя, никого и нет больше. Ты читаешь уже?
Зина, наконец, подняла на нее полные слез глаза и, как показалось Ольге, они уже не были так напуганы.
– Да, читаю.
– Вот и хорошо. Я письма тебе писать буду, а ты обязательно отвечай, ладно?
– Ладно...
И Ольга решительно обняла и прижала к себе Зину – ее дитя, девочку, которую она вспоминала больше четырех лет, благодаря которой, наверное, и выжила там...
Ком встал в горле. Сил терпеть это не было больше никаких сил, она силой воли отстранилась от дочки, быстро натянула сапоги, ватник. Взяла мешок.
– Прощай, Зиночка, – ком сделал голос грудным, не своим.
Она вышла в коридор, быстро подошла к стоящему поодаль Федору.
– Прощай, Федор. Живите. Дочку береги!
Он даже не успел ничего сказать, открыл рот с прилипшей к губе папиросой. Смотрел ей вслед.
Бежать! Надо было скорей исчезнуть отсюда, чтоб не свалиться в бездну отчаяния. Там, в вокзальной суете она отойдет духом, спасётся.
Она, как виртуозная пианистка клавиши, перебрала ногами ступени лестницы и вылетела во двор.
Глотнула прохладного весеннего воздуха и направилась к арке. Только не оглядываться! Уйти отсюда, пережить боль, а потом все встанет на свои места. Все встанет.
И вдруг, как трель, которую выткал сам свист ветра:
– Мама! Мама! Не уезжай! Мама!
Она оглянулась – наполовину свесившись в открытое окно, ее звала дочка. И вдруг она быстро исчезла в оконном проёме.
И Ольга бросилась бежать обратно. Встретились они на лестничной площадке, дочь обхватила ее за талию, прижалась щекой.
– Мама! Мамочка! Я помню тебя, честное слово – помню. Я ждала, когда ты вернёшься...
– Зина, доченька моя...
И не было больше слов...
Потом Федор курил, ходил по комнате, а Ольга сидела не раздеваясь. Рядом с ней, прижавшись сидела Зина.
– Ну, решай, Федя. Тебе решать...
Федор не сомневался.
– Чего решать? Жена ты мне. Раздевайся давай, здесь будешь жить.
– А с Катериной как?
– Решу я... Да и дом у неё есть, материнский.
И он сам начал снимать с жены фуфайку.
Вечером следующего дня приехала на телеге с возчиком Катерина, опухшая от слез.
– Мама! – встретила ее Зиночка.
Катерина погладила ее по голове, молча прошла к шкафу, начала собирать свое добро. Зина бросилась ей помогать.
Катерина тихонько приговаривала, перебирая вещи.
– Ты чулки эти помнишь? Велики они ещё, не забудь после. И платье синее одень на праздник, а на новый год уж белое мало тебе, верно. Другое надо. Скажешь матери.
Зина косилась на мать Ольгу. Не обижает ли, общаясь с мамой второй? Та заваривала чай.
Катерина собрала только свою одежду.
– Может ещё что тут ваше, забирайте, – Ольга показала на кухонный стол, посуду.
Катерина махнула рукой.
Она уже собралась было уходить с простынями, завязанными узлами, как Ольга позвала.
– Давайте, Катерина, чаю выпьем.
– Так ведь ждут меня, – она пожала плечами, – Но давай, коли скоро...
Сначала молча, скованно они пили чай, а потом Катерина заговорила.
– Федор борщи хорошо ест. Я прям только их и варила. Супы не так любит. И рука лучше стала. Теперь хоть ночами не стонет, а то стонал все...А Зине сладкого много не давай, с зубами у нее беда. Коренные уж болят. И это ... уши у нее, ну, расскажешь, Зин, как зимой-то болела.
– Спасибо!
Ольга помогла стащить узлы вниз, вместе с возчиком закинули их на телегу. Из окон повысовывались соседи – виданное ли дело, чтоб жена любовнице вещи забирать помогала.
Но, то ли война сгладила людские души, то ли голодные времена заставили посмотреть на все с другой стороны, многие и не сильно удивлялись.
– Это, – Катерина встала перед ней, опустив глаза, – Ты прости меня, коли виновата.
– Считайте, простила. А я за Зину благодарю и Федора. Чай нелегко было на себя дитя взвалить и его – больного.
– Да ладно, – Катерина покраснела от похвалы, – Оль, – она положила руку на высокую грудь, – Поклянусь тебе, что Федька – твой. И в сторону его не гляну, хоть и люблю его, гада. Но Богом прошу – позволь Зину видеть мне и матери. Прикипели мы к ней. Мать слегла, места себе не находит, как скучат. Мы ж ее, как родную..., – и Катерина горько заплакала, в горле ее заклокотали слезы.
– Я обещаю, Кать. Пусть прибегает. Не против я. Уж и правда, как родные.

Следующим летом тут же во дворе Зина сидела на скамье, покачивая в низенькой коляске маленького Мишутку.
Ольга появилась из арки, запыхалась, а увидев Зину с коляской, сразу сбавила шаг. Бегала она в поликлинику. Переживала – Мишка без груди у Зины раскапризничается.
Но Мишка спал. Ольга устала, упала на скамью.
– Мам, папа приходил, мы пообедали уж. Ешь иди, посижу я.
– Да ладно, я уж и с Мишей пообедаю.
– Ну, тогда пойду я к бабе Шуре. У нее там щавель вырос, ну и пополю в огороде чуток.
– Ступай. На дороге только смотри...
Зина вспорхнула, помчалась к арке.
– Зин, – окликнула её мать, – И передай там тете Кате поздравления мои. Скажи, мама велела, чтоб счастлива была в законном браке!
***
У каждого времени свой уровень боли и прощения. Или это не так?
Автор: Рассеянный Хореограф