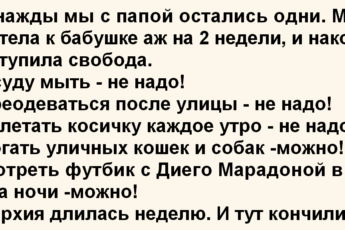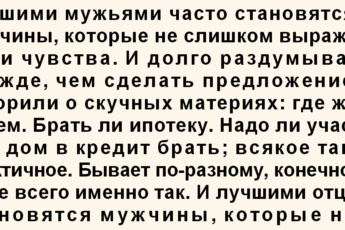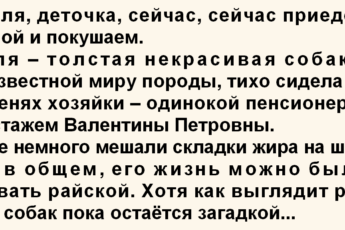Мариночка... Так её называют дети. Может, потому, что уколов она не делает, а чаще всего просто разговаривает. Улыбаясь, спрашивает о том, о сём, рисунки хвалит. Мол, вырастешь ― твои картины в Лувре висеть будут... Ага, будут! Всем понятно, что утешает, успокаивает. Ведь нас, детей в «раковом» отделении, врачи, среди прочего, должны обеспечивать надеждой. Как говорят, «на позитив настраивать»...
А какой здесь позитив? Не дураки уже большинство, знаем: усатой санитаркой тёткой Ольгой научены.
— Вона, — говорит, когда полы под кроватями моет, — слышите: молоточки стучат? Энто вам гробики сколачивают...
Вот и весь позитив. Да мы и без неё понимаем, каков будет конец. Но Мариночка всё равно рассказывает о нашем будущем, фантазирует. Бывает, сядет на кровать ― и давай придумывать.
— У тебя, Славик, — это она мне, — семья большая будет. Трое. Нет, четверо детей и жена красавица...
— Пусть, — говорю, — она врачом работает, ладно?
— Хорошо, пусть работает. Так вот. А ты известным следователем станешь, — это Мариночка мою страсть к книжным детективам в реальность трансформирует. — Будешь трубку курить, и все девчонки в тебя влюблены будут.
— Да кому я нужен-то лысым, — и рукой на свой голый, как коленка, череп показываю.
— Это ерунда, Славик: волосы не главное. Гораздо важнее, что в душе у тебя...
Верно, душа важнее...
Мне 11 лет. В больнице уже год живу. Волосы не сразу выпали, хотя, если честно, каким я с причёской был — не помню совсем. Мама всё реже приходить стала. Может, и хорошо, что так. А то придёт, сядет на табурет рядом и плачет — аж самому тошно становится. И перегаром от неё пахнет. Тётка Ольга говорит, что сдалась, мол, мать: заживо отнесла меня — вот и пьёт. Поминает.
А отец уже месяца три не навещал. Мамка сказала, что в командировку уехал, не вернётся никак...
В палате нас четверо. Я самый старший и самый старожил. Двое совсем мальцов — пяти и шести лет — под капельницами постоянно. А недавно новенького на мишкино место перевели, Олежкой зовут. Лежит, хнычет всю дорогу – больно, говорит. Я ему иногда свои витаминки сладкие даю — успокаивается. Но дружить он всё равно не хочет — мол, не за чем. Хотя Мариночку, смотрю, с первых посещений полюбил. Да к ней и нельзя по-другому относиться: самой ей бог детей не дал, и всю свою не истраченную любовь материнскую она на нас изливает. И лечит.
Мариночка — врач. Говорят, что здесь она несколько лет работает: пришла сразу после института. И ведь не зачерствела пока! Хотя сколько нас, Славиков и Мишек, уже проводить успела...
Так день за днём и проходит: в ожидании...
Сегодня тоже Мариночкина смена ― жду, к шагам в коридоре прислушиваюсь. Вчера мне наконец-то разрешили вставать, но далеко ходить всё равно нельзя, поэтому я пристроился у окна. Ах, как хорошо там! Самый красивый ноябрь в моей жизни! Деревья в больничном дворе утренний мороз украсил снежными гирляндами, сплёл из застывших веток фигуры — можно хоть целый день разгадывать. А солнце оставшиеся листочки, словно струны, перебирает пальцами лучей: мелодию к зиме подбирает. И если плотнее прижать ухо к стеклу, то можно эту музыку услышать. Она про жизнь и про любовь...
Тут дверь распахнулась, и я уже собрался радостно поприветствовать Мариночку, но это оказалась тётка Ольга. Ведром посередине палаты бряцнула и шлёпнула мокрую тряпку на пол. Молча всё, даже на нас не глядя. И швабру длинную с плеча сняла: ну вот вылитая та самая старуха, только вместо косы — швабра.
Но я поздоровался.
— Здрасьте, тёть Оль, — говорю. — А почему к нам Мариночка не идёт? Или смена не её?
— Её, её, — отвечает, — дурочки этой.
А сама тряпкой под Олежкиной кроватью жмыхает.
— Не придёт сегодня, не ждите, — продолжает. — Сама заболела с вами, полутырками, — и тут швабру на пол бросила и руками всплеснула: — Ну это же додуматься надо! Свои деньги на вас тратила! Вот дура-то!..
Только на третий день от другого врача мы узнали, что Мариночка на свою зарплату нам разное покупала: альбомы для рисования, книжки, фломастеры. И в прошлую зиму даже одеяла нам тёплые, стёганые на всё отделение сама сшила. А пальто себе зимнее купить не успела... Свалилась с воспалением ― в другом корпусе теперь сама лежит. Тоже, наверное, в окно смотрит...
— Ага, щас, смотрит, — то ли ругается, то ли радуется тётка Ольга. — При смерти она: температура сорок, лежит там бледная, зубами стучит под одеяльцем больничным. Себя бесполезно на вас променяла. Э-эх...
Вон оно что...
План в голове возник за секунды.
Наша палата располагалась на втором этаже. Высоко, в общем-то, но страшно не было.
Конечно же, дождались ночи. Участвовать решили вчетвером, иначе ничего бы не получилось. Как только новенький дежурный врач сделал обход, настала пора действовать.
Простыни связать — это полдела. Вот смочь, сидя на подоконнике, на морозе-то — это самое важное. Двух мальцов с собой решили не брать: в палате будут стеречь наше с Олежкой возвращение, чтобы обратно простыни скинуть. В общем, собрали мы в один тюк все наши одеяльца — у нас в палате и без них как в духовке — и первым его сбросили. Простыни я к ножке своей кровати привязал и за окно вылез.
Да что б тебя! Ветрище сразу под пижаму забрался, вцепился в тело острыми коготками. Тут я пожалел, что только в тапочках больничных и в носочках лёгких вышел: пальцы на ногах в миг одеревенели. Но отступать нельзя: там Мариночка из-за нас мучается.
От подоконника отцепился и, кое-как перебирая хилыми ручонками, чуть не срываясь, как мотыль на леске, спустился до низу. Хлопнул пластмассовыми подошвами об асфальт — думал, всю больницу разбужу. Но обошлось, вроде бы...
Олежке показываю: давай, мол, спускайся. Смотрю ― карабкается. Эх, дурной: носки под тапки не надел даже, и штаны-то пижамные у него коротенькие, до середины голени. Замёрзнет же! Шепчу громко:
— А ну, обратно лезь, пока не спустился! Один справлюсь.
Может, так и безопаснее будет, надёжнее получится. Олежка обратно в палату закинулся — снизу видно, что нос синий от холода, — простыни за собой втянул, чтобы не заметил никто, и сразу окно закрыл. Рукой через стекло показывает: мол, иди ― я на «посту» буду.
Ну и хорошо. Тюк с одеялами за спину взвалил, крякнул по-взрослому и пошёл к соседнему корпусу, прячась от фонарей.
Лысая голова жуть как замёрзла, до самых мозгочков мороз добрался. Иду, шатаюсь, Мариночкой себя подбадриваю: мол, умрёт она без нашей-то помощи, позаботиться о ней, кроме нас, некому. В темноте бордюра не увидел ― обоими коленями прямо о бетон ударился так, что яркие брызги из глаз посыпались. Но губу нижнюю прикусил, чтобы не закричать, не завыть от боли. Посидел немного, пока холод в позвоночник через пятую точку не проник, и снова встал — дальше идти надо.
Один тапок улетел куда-то в темноту. Руками пошарил — нет нигде. «Ладно, – думаю, ― ничего, и так дойду». А в одном-то шаркать неудобно — и второй тапочек бросил. Тюк снова за плечо забросил, как картошку носят, и дальше в путь отправился. Думаю, увидел бы меня сейчас кто, от смеха бы прямо на месте умер: идёт доходяга метр тридцать ростом, мешок больше себя несёт, лысина инеем покрыта и в одних носочках с дыркой на пятке. Умора!.. А вдобавок слёзы на щеках кристалликами от холода застыли.
Плакал от боли, конечно...
Палата Мариночкина находилась на первом этаже: мы всё заранее вызнали, иначе не решились бы на эту ночную «операцию». Окно её подсвечивалось ночником — можно даже разглядеть, что внутри. Я тюк с одеялами прямо под подоконник поставил и замороженными ступнями на него залез, чтобы повыше было.
Вот она, Мариночка наша: лежит, лицом бледная, как воск, на лбу крупная испарина блестит, и дышит тяжело так, прерывисто, с надрывом. Моё сердце от этого сжалось в комочек и к горлу поднялось. Жалко-то её как! Я-то… мы — ладно, с нами ясно всё, нас таких много. А она — одна на всех. Всех нас любит, надежду даёт. Да и саму жизнь, может, даёт по второму кругу. Смотрю на неё через окно и слёзы кулаком по щекам размазываю, жалею самого близкого своего человека.
Но дело надо доделать. Постучался тихонько — нет реакции. Думаю: «А что, если вдруг без сознания?» В детективе читал, вспомнилось, что нельзя в таких случаях человеку спать давать — может не проснуться. Вспомнил и испугался! И со всей силы в окно забарабанил заледеневшими кулаками с криком:
— Марина! Мариночка! Ты только не спи! Слышишь?! Не спи только!
Через рыдания слова уже в рёв превратились, но стучу по стеклу — только бы проснулась.
И тут смотрю: глаза её затрепетали, приоткрылись. Посмотрела на меня, и снова веки без сил опустились, только слеза по щеке скользнула — значит, увидела меня, значит, поняла. Жива, значит.
А в больничных коридорах уже загорелся свет, кругом громкие голоса. Дверь в Мариночкину палату распахивается, и врач с медсестрой забегают. Только это и помню...
Говорят, что я сам от переохлаждения без сознания упал. Хорошо, мешок с одеялами рядом был — на него прямо. Ноги сильно отморозил: они долго ещё ничего не чувствовали и ощущались как деревяшки. Потом стало ужасно больно, поэтому меня уже Олежка своими витаминками подкармливал.
С того случая я стал местной больничной легендой: со всех отделений на меня посмотреть приходили. И кто чего только не рассказывал! Мол, меня к Мариночке в палату через её окно затащили вместе с теми одеялами. Говорили, что она меня к себе в кровать положила отогревать, что всю ночь сама на меня теплом своим дышала. В общем, вышло так, что спасла спасителя своего неудавшегося.
Сама она поправилась, конечно, — не знаю точно, одеяла наши помогли или лечение, — но уже через месяц снова к нам пришла. С улыбкой и слезами. «Рыцари, ― говорит, ― вы мои сказочные...»
Но сказка и в жизни случается.
Я выздоровел. Не сразу, конечно: пришлось в столице в каком-то Центре побывать. Там ещё с полгода полечился. Как оказалось, помогло.
И только недавно узнал, что моё лечение стоило больших денег. Стал выяснять — следователем работаю всё-таки, — кто оплатил.
Думал, может, мать перед своей смертью или отец потерявшийся…
Оказалось, что Мариночка.
Своё окно узнал сразу. Рука сама к голове, так и оставшейся без волос, поднялась. И сердце что-то защемило: хлынули воспоминания. Опустился на лавочку осеннюю в больничном дворе, будто и не уходил отсюда: всё те же голые деревья, тот же запах щей из пищеблока и тишина. Будто время здесь специально превратилось в кисель, чтобы жизнь на подольше растянуть.
Из дверей корпуса вышел силуэт в белом халате. Лица не рассмотрю никак ― слёзы мешают, а смахнуть вроде стыдно, взрослый же. Только вблизи по улыбке понял: Мариночка...
Уже с сединой, на добрых и понимающих глазах очки. Остановилась, посмотрела внимательно.
— Ну, Славик, а ты говорил, что некрасивый вырастешь... А сам вон какой!
И улыбается сквозь слёзы.
Мне бы хоть что-то в ответ сказать, но не могу никак. Ладонь её взял и лицом прижался, склонившись, а она меня по голове гладит, успокаивает:
— Не надо, Славик, не говори ничего. Хорошо же всё…
Да чего стесняться-то слёз своих! Обнял её.
— Спасибо, — говорю, — и не только от себя, — и за больничный забор показываю.
Там моя любимая жена платком слёзы вытирает, а двое сынишек стоят, не поймут: чего это папка сопли на кулак наматывает.
— Всё, как обещали, — улыбаюсь, — так и случилось. Детей только двое пока, но это ведь дело наживное.
С тех пор Марина Владимировна стала членом нашей семьи. Хотя, наверное, её семьёй я всегда был.

Автор: Игорь Галилеев