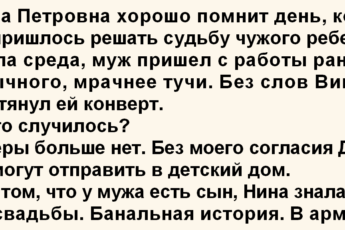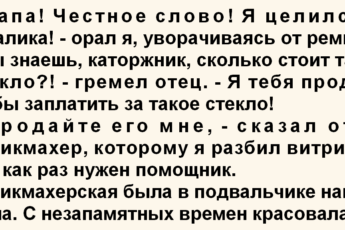Мне исполнился месяц, когда меня забрали у кошки-мамы. Новый хозяин сунул меня за ворот пальто, и мы вышли на улицу. От страха я не смогла даже мяукнуть. Только дрожала и через небольшую щель рассматривала улицу.
В новом доме ко мне сразу подбежала девочка десяти лет и взяла на руки. Позади нее встала хозяйка и внимательно осмотрела меня.
– Какая страшненькая. Глаза рыбьи, уши огромные. Там симпатичнее котят не было?
– Муся первая ко мне подошла, сразу стала ласкаться, и мое сердце растаяло, –улыбнулся хозяин.
– Муся? – переспросила девочка.
– Тебе не нравится это имя?
– Наоборот, хорошее.
Еще в квартире жила бабушка. Она не особо стремилась со мной подружиться, пока я в один из дней не запрыгнула к ней на колени.
Я росла игривым котенком, а дремать любила на высоком подоконнике. Оттуда хорошо просматривалась вся улица. Я уже поняла, что живу в большом старинном городе Ленинграде.
Мой хозяин был музейщиком, и когда приходили гости, он много рассказывал об истории города и экспонатах, с которыми ему довелось работать.
А я могла наблюдать только вид из окна, людей, которые куда-то спешили, и своих бездомных сородичей, что с независимым видом перебегали дорогу либо забирались на деревья.
Наша семья жила скромно, но счастливо. Пока не началась война. Я поняла, что случилось что-то плохое, когда увидела тревогу на лицах людей. Уже со следующего дня хозяин стал допоздна пропадать на работе. Вышел приказ об эвакуации музейных экспонатов, прежде всего ценных. Хозяин целыми днями занимался упаковкой вещей, а по вечерам приносил последние новости о войне. Вести были неутешительными: шло быстрое продвижение фронтов вглубь страны. Враг наступал, и наши войска не могли оказать должного сопротивления.
Уже в конце июля Ленинград начали бомбить. Хозяин вступил в команду противовоздушной обороны. Теперь он дежурил на чердаке музея во время налетов. С помощью песка хозяин тушил бомбы-зажигалки, которые попадали на крышу.
А мы после объявления воздушной тревоги, спускались в подвал, который служил бомбоубежищем. Девочка надевала теплую кофту, а я залезала под нее. Первое время я очень боялась, а потом осмелела и даже высовывала мордочку через ворот кофты. Дети, которые тоже спускались в подвал, подходили и гладили меня. На их лицах даже появлялась улыбка. Мое присутствие ненадолго, но отвлекало их от грохота на улице.
В августе произошло ужасное, хотя в те дни никто еще не осознавал последствий. Во время очередного налета загорелись продовольственные склады. Черный дым пожара мы наблюдали три дня. А хозяин возмущался:
– Почему хранили продукты в одном месте? Почему никто не догадался рассредоточить продовольствие. Ведь уже месяц как на нас падают бомбы!
Примерно тогда самые предприимчивые принялись делать запасы: сахар, масло, крупы, консервы. Хозяин тоже бы закупил, но у него не было денег, а когда получил заплату, приобрести было уже нечего.
8 сентября кольцо вражеских войск вокруг Ленинграда замкнулось. И никто не мог предположить, что блокада продлится девятьсот дней!
Сначала появились карточки для выдачи хлеба, а в конце сентября уменьшили норму выдачи продуктов.
Налеты на город совершались так часто, что хозяин решил переселить семью в убежище, что было оборудовано в подвале музея. Хозяйка сложила самые необходимые вещи, девочка спрятала меня под кофту, бабушка собрала скудный запас продуктов, и мы отправились в путь.
Новое помещение было похоже на длинный широкий коридор с кроватями по бокам. Там было тепло от трубы отопления, что проходила под музеем, и светло от электроламп. Здесь поселились семьи, пожилые пары, старушки со взрослыми дочерьми. Несмотря на большое количество народа, жили все дружно, днем старались помочь друг другу, а вечерами вели интересные беседы. Я была единственным животным и пользовалась всеобщей любовью.
А паек становился все скуднее, сил оставалось меньше. Днем мы с девочкой лежали на постели. Я тоже была слаба, хотя хозяева делились со мной крохами пайка. Хозяин с нами не ночевал. У него была койка в пожарной команде, которая находилась в другом крыле здания.
Первым в подвале умер старик по соседству. Он ушел без стонов и жалоб, будто заснул. Это был единственный человек, кому организовали похороны: положили в гроб, сделали дубовый крест. Последующих умерших просто складывали в гараж, который служил моргом.
С ноября по декабрь шла эвакуация, но наша семья не входила в списки избранных, а многие его друзья имели возможность уехать. В конце осени у хозяина еще были силы, чтобы навестить знакомых перед отъездом, а в декабре он еле ходил на воздушные тревоги. К тому времени по продовольственным карточкам выдавали 300 грамм хлеба, который был больше похож на глину. Я раньше ела только вареную рыбу, а сейчас жадно сгрызала кроху этого противного хлеба.
Бабушка была обеспокоена здоровьем хозяина. Она сходила в больницу, где работала раньше, и попросила положить сына в стационар, где было неплохое питание.
Накануне госпитализации хозяин и хозяйка сходили домой за зимними вещами. До этого если семья если и появлялась на улице, то только для прогулки рядом с музеем.
Они вернулись через несколько часов. Хозяйка тут же упала на кровать и расплакалась. Бабушка села рядом и принялась поглаживать её по спине и плечам.
– Город не узнать, – пробормотала хозяйка сквозь слезы. – Снег не убирают, люди ходят еле-еле, как тени, многие с палочками. Некоторые падают. Мы сначала пытались поднять их усадить на ступеньки, но у первых двух не было сил даже сидеть. Они валились на землю. Больше мы никого не поднимали. Сильные везут на санках слабых или мертвецов в одеялах.
Хозяин пробыл в больнице недели три. А когда вернулся, рассказал, что питание было лучше, чем по карточкам, но свет в палате был тусклый, а топили плохо. Врач объяснил, что в кочегарне один за другим слабели и умирали у топок кочегары, и теперь их осталось только двое. Смертность в больнице была такая высокая, что покойников в мертвецкой клали друг на друга.
Еще хозяин рассказал, что теперь будет работать санитаром в больнице. Его пожарная команда распалась из-за смерти большинства участников.
А бабушка сообщила ему о гибели друзей и знакомых. Слушая список фамилий, хозяин расплакался. Я переползла к нему на колени, потянулась к его лицу и лизнула мокрую щеку.
– Одни кости. В чем только душа держится, – заметил хозяин, поглаживая меня.
– Ее недавно чуть не украли, – сообщила девочка и, всхлипнув, добавила: – Хотели съесть.
Хозяин одной рукой обнял дочь.
– Мы не дадим Мусю в обиду, обещаю.
Через месяц в бомбоубежище отключили тепло и свет. Немногочисленным выжившим ничего не оставалось, как разойтись по домам.
Накануне отъезда хозяину удалось выменять новые ботинки на железную печурку. Потому что отопления уже не было во всем городе. В квартире мы все разместились в маленькой комнате, предварительно установив буржуйку.
Хозяин работал посменно. В его обязанности входила пилка и колка дров, разгрузка раненых, а после помывки их развозили по отделениям. Работа была тяжелой для ослабленного человека. Но в то же время если хочешь выжить, нельзя лежать. Особенно дистрофикам.
Женщины в нашей семье мало выходили из дома, но раз в два-три часа бабушка заставляла всех подниматься и ходить по квартире. Хлеб, который выдавали, был настолько клейким, что перед тем как съесть, его резали на мелкие кусочки и сушили на печке.
Жильцов в нашем доме становилось все меньше. Люди умирали в своих постелях, падали на лестнице, был случай самоубийства и помешательства. Только женщина-управхоз оставалась относительно бодрым человеком, которого мне доводилось видеть в те дни. Я слышала, как хозяйка с бабушкой шептались, что она обворовывает квартиры умерших жильцов. А недавно, чтобы завладеть имуществом погибшей супружеской пары, управхоз усыновила их сына.
Однажды она заглянула к нам. Ее взгляд сразу остановился на мне.
– У вас мясо под боком, а вы голодаете, – заметила она.
Девочка обняла меня и испуганно посмотрела на гостью.
– Муся часть нашей семьи, – ответила хозяйка.
– Забейте ее на котлеты, все равно от голода сдохнет, – ухмыльнулась управхоз и скрылась из вида.
– Мама, – жалобно протянула девочка.
Хозяйка погладила дочь по голове:
– Не бойся, никто нашу Мусю есть не будет.
В феврале моя семья стала варить столярный клей с лавровым листом, чтобы отбить запах. Блюдо было тошнотворным, но я заставляла себя есть, чтобы не погибнуть.
К февралю 1942 года в Ленинграде не осталось голубей, ворон, кошек, собак. Моя семья вываривала ремни, ела ложками гомеопатические лекарства, пила растворенную в кипятке горчицу.
В нашем доме было несколько ценных вещей. Однажды за старинный портсигар хозяину удалось выменять кружку крепкого чая с сахаром и буханку белого хлеба.
Бабушке, когда она попыталась обменять плюшевую скатерть на рынке, повезло меньше. Один человек предложил полбуханки и десять кусков сахара, а другие – мешок муки. Бабушка выбрала второе и лишь дома заметила, что мука была насыпана только сверху, а основная часть мешка – мел.
Я помню, как в тот день женщины разрыдались в голос, а девочка тихо всхлипывала. Я забилась под диван и лизнула пол, в животе невыносимо урчало.
В марте из окна я наблюдала, как убирают трупы. Те, что лежали в сугробах и подъездах.
А когда начал таять снег, хозяин признался, что ему неприятно ходит по городу. На улицах часто сталкиваешься с останками убитых животных, в основном собак и кошек.
Но самая страшная находка ждала впереди. В один из дней хозяин отправился привычной дорогой. У старинного здания, который в народе называли дворцом великой княгини, он заметил грузовик. Машина стояла рядом с распахнутыми парадными дверьми. Хозяин поднял глаза и увидел, что в кузов складывают голые трупы. Когда машина заполнилась, страшный груз укрыли розовым одеялом и закрепили веревками. Хозяин заглянул в открытые двери. В огромном холле ярусами лежали мертвецы. Он вздрогнул и поспешно пошел вперед. А по дороге мимо него десятками проезжали грузовики, а розовые одеяла в их кузовах колыхались от ветра.
Однажды к нам заглянул военный, родственник семьи. Он принес хлеб, консервы, сахар, чай. Хозяин рассказал ему про грузовики и как однажды видел труп с отпиленными ногами.
Военный опустил голову.
– Трупы убирают, чтобы уберечь город от эпидемий. Специально прислали людей с большой земли. Их хорошо кормят, и каждый день дают пол-литра водки. А насчет трупоедства много дел было заведено. Ещё и случаи людоедства были. Таких расстреливают. Это уже не люди, – проговорил он.
К лету 1942 года моя семья дошла до стадии дистрофии. Хозяин еле ходил, у него болели ноги, не сгибались колени. Я передвигалась мало и большей частью спала. Однажды мой сон был настолько крепким, что, казалось, я умираю. Хорошо, что девочка вовремя заметила и принялась меня тормошить. Я открыла глаза не сразу, и она, решив, что я погибла, расплакалась:
– Муся, Муся, не бросай меня.
Я открыла один глаз. Девочка улыбнулась и, насколько ей позволяли силы, прижала меня к себе.
Но ослабленный организм бабушки дал сбой. В конце марта она умерла во сне. В тот день хозяин не плакал, у него не было сил. А я из-за слабости не могла запрыгнуть к нему на колени и только потерлась мордочкой о его ногу. Он взял меня на руки и прижал к груди.
Если бы вторая блокадная зима, была такой же голодной, как предыдущая, мы, наверно, не выжили. Но летом стали постепенно прибавлять паек.
Потом коллега познакомил хозяина с начальником обоза, который развозил хлеб по торговым точкам. Он был ценителем золотых и серебряных вещей. Первый раз хозяин отнес ему кусок ткани на костюм и золотые часы бабушки. За это начальник дал три буханки хлеба и два килограмма конины. Второй раз хозяин выменял у него хлеб и конину за золотой футлярчик для плоского карандаша. Больше ценных вещей в семье не осталось.
Но потом близкого друга хозяина перевели на повышенное довольствие, и он щедро делился с нами продуктами.
В конце лета хозяин перешел на работу в другой музей. Там он имел право ходить в столовую. Конечно, хозяин съедал не все, а большую часть продуктов приносил нам.
Блокаду Ленинграда сняли в январе 1944 года. В город стали завозить продукты. Хозяйка приучала нас к еде постепенно. С помощью маленьких порций. Тогда мы уже знали, что после длительного голода употребление большого количества еды может быть смертельным.
Когда склады стали заполняться товарами, на город обрушились крысы. Они грызли все, что попадалось на пути: портили продукты, мебель, предметы искусства.
Я вышла на охоту, но что я могла сделать одна в пятиэтажном доме?
– Я бы котенка у вас купила, – просила соседка.
Оставалось дело за главным – найти кота. Но моих сородичей в городе почти не осталось.
В те дни было принято решение выписать из Ярославской области дымчатых кошек. Эта порода считалась лучшими крысоловами. Кошачьих набралось четыре вагона. Когда поезд прибыл на вокзал, их встречала очередь из людей. Вскоре прибыли вагоны и из других областей.
Все мои сородичи были разобраны, но не только по домам. Некоторые стали жить при музеях и складах, защищая имущество от уничтожения крысами.
Я забеременела в мае. В конце лета родила троих котят. На них выстроилась очередь еще до рождения. Соседка часто наведывала нас с разными вкусностями. Для себя она выбрала черного котёнка с белой грудкой.
Когда котята подросли, мы вместе забирались на подоконник и нежились в лучах солнца. Ленинград становился оживленным, каким был до войны. Куда-то спешили люди, ездили машины и трамваи, работали магазины.
Но этот город уже никогда не будет прежним, особенно для тех, кто пережил блокаду и потерял близких, друзей, коллег, знакомых. Этих имен тысячи, а братская могила одна.
Ко мне подошёл хозяин и провел рукой по спине.
– Твоих непосед пора раздавать, иначе они всю комнату разнесут, – сообщил он.
Я лизнула черного котенка. Хозяин взял его на руки и отнес соседке. Вечером пришли за остальными.
Я легла на спину и потянулась. Материнство, конечно, дело утомительное, но нет ничего волшебнее рождения новой жизни. И нет ничего страшнее голода и войны.