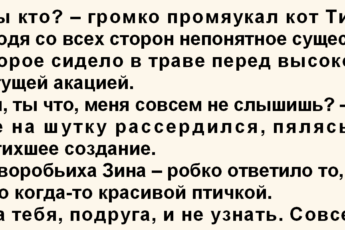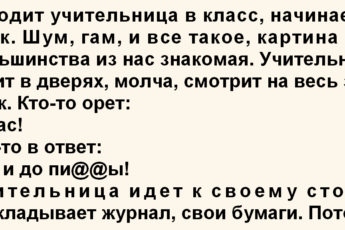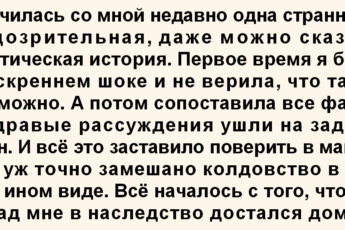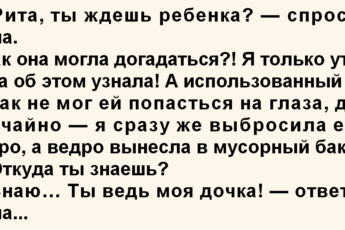Лежал Степан – умирал…
А за окном на редкость тёплый май распустил черёмуху. Колыхались приветливо цветы белые и просились в гости в окно раскрытое.
Неделю назад слёг он и больше не вставал.
Жена Ефросинья суетилась в заботах, надеясь, что встанет муж. Ведь и шестидесяти ещё нет, хоть и израненный весь в войну, но мужик-то крепкий.
А он уже знал, что не встанет. Чувствовал, как жизнь медленно уходит из него, и запах от собственного тела тоже чувствовал. Особый запах, который он не забыл с войны.
Начинал так пахнуть человек, перед погибелью своей. Вроде здоровый сам, а в глазах уже тоска смертная, и запах какой-то особый. День, два, и погибал человек, сам смерть свою предчувствуя.
Не всегда это так происходило, но случалось частенько.
Ничего не болело, только давило грудь сильнее обычного. Казалось бы, привык за многие годы к тяжести этой. Отпускала она его иногда на ночь.
Но просыпался поутру, вспоминал всё, и снова наваливалась.
Приснился Костя – сын единственный с войны не вернувшийся.
Долго смотрел на отца, потом молча протянул извещение, что без вести пропал он... и, повернувшись, пошёл куда-то вдаль.
– Костя! Сынок! Обожди, не уходи! – закричал Степан.
Проснувшись в холодном поту, понял, что перешёл рубеж, за которым уже ничего не будет.
Самой смерти он не боялся. Боялся унести с собой груз, что носил в себе много лет и не знал, как поступить сейчас.
С женой Ефросиньей прожили они почти сорок лет.
Удалым парнем был он в молодости: гармонист и плясун.
И Фрося девкой видной была – первая красавица на деревне.
Поженились. Сын Костя родился. Хорошо жили, дружно. Только не дал им бог больше детишек, вот и тряслись над единственным «кровинушкой».
Хороший парень рос, хоть и один в семье, а не балованный был. С малолетства сам родителям помогать старался – просить не надо было. Нарадоваться на него не могли они.
Началась война...
В сорок первом ушёл Степан на фронт, а в сорок третьем призвали и сына.
А летом того же года пришло извещение Ефросинье, что пропал Костя без вести где-то под Курском.
Горевала мать, но надежда была, что хотя бы в плену он – ведь не похоронка пришла.
В соседней деревне в начале войны тоже извещение пришло, а потом объявился он в сорок четвёртом. Оказывается, два с половиной года у партизан воевал.
Не теряла веру Ефросинья, даже мысль такую не допускала, что сын ее мёртвым может быть.
Кончилась война. Степан домой вернулся. Вся грудь в орденах, а сам седой весь – лицо морщины избороздили. Три года в разведке – там не помолодеешь. Фронт – он редко кому свежести прибавлял.
Два года прошло. Ефросинья частенько ходила за околицу и все ждала, вглядываясь в уходящую дорогу.
Проходили через деревню возвращающиеся фронтовики. И вздрагивало каждый раз сердце у матери, когда показывался на дороге человек в форме. Стояла потом и плакала огорчённая, пока Степан не уводил её в избу.
Успокаивал неумело, гладя жену по уработанной худенькой спине.
Но раз в год в конце июня в один и тот же день брал Степан бутылку водки, гармонь и запирался в сарае. Пил он водку и молча смотрел в одну точку. Тянул гармонь и долго напевал какой-то тоскливый мотив.
Гармонь потом пылилась целый год под кроватью – перестал он ходить на свадьбы да на гулянки после войны.
После смерти Сталина воспрянула Ефросинья. Отпускать начали из лагерей бывших военнопленных. Частенько вставала утром рано, заводила тесто и к обеду пекла пирожки или шаньги.
Нарядно одевалась и шла за околицу – сына встречать...
Пытался Степан объяснить ей, что много времени уж прошло, не вернется, наверное, Костя.
Но смотрела она на него таким взором, что замолкал он на полуслове и глаза отводил.
Наступил момент, когда стало Степану невмоготу лежать вот так и смерти ждать.
Отправил он жену за Захаром.
Так случилось, что заканчивали земляки войну вместе. Захар после госпиталя был назначен в его подразделение старшиной.
Сам Степан уже тогда командовал взводом полковой разведки.
Спас тогда Захар Степана – не дал ему попасть под трибунал…
В конце войны, когда их полк шёл по Румынии, взвод Степана шёл в авангарде, ведя разведку.
Немцы частенько оставляли тогда населённые пункты без боя.
Войдя в очередную румынскую деревню, зашли они в крайний дом.
Во дворе похожий на цыгана румын пёк на железной печке кукурузные лепёшки.
Мешая румынские и русские слова, спросили его, есть ли в селе немцы?
Румын с раздражением как-то странно посмотрел и сказал, что немцы ушли ещё вчера.
Пошли, не боясь по прямой улице, вышли на площадь перед костёлом.
И тут с крыши костёла по ним ударил пулемёт…
Бросились врассыпную под секущими очередями.
Степан с Захаром кинулись в обход костёла, на пороге убили двух убегающих немцев. По лестнице быстро взбежали наверх, где почти безостановочно грохотал пулемёт.
Застреленный ими пулемётчик оказался штрафником, цепью прикованным к пулемёту.
Глянул Степан сверху и сердце зашлось: треть взвода лежала, разбросанная очередями по площади.
За всю войну у него не было таких потерь в одном бою – берёг он бойцов и воевал умело. Но здесь случилось, что поверил он местному и положил людей по глупости своей.
Бегом спустился по лестнице и рванулся к крайнему дому. Ни о чём не думал, единственное желание было – убить румына!
А тот, как ни в чем не бывало, продолжал печь лепёшки, когда Степан ворвался во двор.
Вскинув пистолет, выстрелил румыну в голову. Тот ткнулся в раскалённую плиту и с отвратительным шипением задымил лицом.
На высокое крыльцо выскочил старик и женщина с ребёнком на руках…
В тот момент он убил бы их всех, если бы Захар не навалился на него сзади, пригнув руку. Он держал его до тех пор, пока не расстрелял Степан всю обойму в землю.
– Ты, что?! Под трибунал захотел?! – орал Захар, не давая перезарядить пистолет.
Благодарен был потом ему Степан за то, что не дал убить женщину с ребёнком. И дело тут даже не в трибунале – тут другое.

Пришёл к ним в дом Захар, долго разувался у порога. Смотав портянки на голенище хромовых сапог, босиком прошёл в комнату.
Присел на табурет возле кровати, вглядываясь в лицо Степана.
– Как ты?
– Плохо…
Захар и сам видел, что плохо: ввалились щёки у друга, глаза в тёмных обводах глубоко запали.
Вздохнул Захар и потянул из кармана кисет. Спохватившись, стал быстро засовывать обратно.
– Ты закуривай, – разрешил Степан. – И я с тобой табачку вдохну.
Из нарезанной газеты Захар быстро соорудил цигарку.
– Сделать тебе?
– Нет, не надо.
Курил Захар по-фронтовому, пряча цигарку в ладони. Чувствовал, что есть у Степана разговор серьёзный. Ждал.
– Ты глянь, где моя-то, – попросил его Степан.
– Да она вон, гряду огуречную наладилась делать.
– Ну, и хорошо – не помешает, – он опять замолчал, словно набираясь сил. – Почти двадцать лет в себе это ношу, – вдруг заговорил он, торопясь. – Никому не рассказывал. Теперь, чувствую, что не встать мне уже. Один ты у меня, кому сказать это смогу. А ты уж там сам реши, что делать.
Высказал это залпом и задохнулся.
Долго откашливался, еле успокоился, воды выпил и, утерев мокрый подбородок, начал опять:
– В сорок третьем в конце июня стоял наш полк под Курском. Я уже взводом полковой разведки командовал. Обстановка тогда напряжённая была. Мы с передовой не вылезали, фиксировали любое передвижение немцев. Языка по всему фронту взять не могли – берёгся немец. Решило тогда командование языка в открытую брать. Средь белого дня, чтоб неожиданно было. Приказали нам готовиться. Целую неделю я немецкий передний край изучал. Ломал голову, как задание выполнить. Понимал, что шансов у нас никаких живыми из этого ада вернуться, да ещё и немца притащить.
Но повезло нам. В штабе решили перепоручить это дивизионной разведке. Из боя тогда не многие вернулись. Языка за несколько метров от наших окопов немецкая пуля щёлкнула – труп притащили. Командира потом под трибунал отдали – кто-то должен был ответить за провал. Что таить, рад был, что не мой взвод в мясорубку кинули. Тут уж, кому какая карта выпадет – не тебе объяснять. Мой взвод сняли с передовой и на отдых в тыл направили.
Степан закрыл глаза, вновь переживая то, что случилось много лет назад. Тогда в сорок третьем его взвод сделал привал у дороги. Кто-то из бойцов прилёг, другие закурили.
В это время по дороге колонной шёл стрелковый батальон.
Вдруг из первых рядов раздался крик.
– Батя!
Не успел Степан сообразить, как оказался в объятиях сына.
– Костя! Ты, как здесь?! – бормотал растерянно счастливый Степан.
– Окончил курсы младшего офицерского состава, и вот – на фронт отправили.
На погонах сына блестели звёздочки младшего лейтенанта.
– Как дома? Мать, как?
– Нормально. Когда уезжал – всё хорошо было.
Повзрослел сын, пушок над верхней губой пробился, и глаза по-взрослому смотрят.
Поговорить не успевали – батальон сына быстро маршировал по дороге. Обменялись адресами полевой почты. Оказалось, что воевать в одной дивизии будут – полки только разные.
Костя побежал нагонять уходящий батальон.
Смотрел Степан ему вслед – радовался за сына. В девятнадцать лет уже командир взвода. Жаль поговорили мало, ну, да, ничего – встретятся ещё... Рядом ведь теперь.
Костя бежал по дороге, когда в небе раздался характерный зловещий шорох. Так мог лететь только крупнокалиберный снаряд дальнобойной артиллерии – немцы иногда тревожили наши тылы неприцельным шальным огнём.
– Ложись!!! – не своим голосом заорал Степан.
Костя остановился, повернулся, пытаясь понять, что ему крикнул отец…
А в это время снаряд врезался ему под самые ноги!..
Упругим сжатым воздухом со Степана сорвало фуражку, толкнуло в лицо и грудь. Но он даже не пригнулся. С ужасом глядел на высокий столб огня и дыма, поднявшегося на том месте, где только что стоял его сын.
На ватных ногах, как в страшном сне бежал он к дымящейся воронке…
Кости не было!..
Степан метался вокруг воронки, ещё надеясь на то, что сын каким-то чудом успел укрыться…
Пыль осела, Степан в оцепенении смотрел на мелкие обгорелые клочья, ещё минуту назад бывшие его Костей!..
За два года войны он всякое повидал. Видел, как людей перемалывали гусеницы танков, как рвали бойцов очереди крупнокалиберных пулемётов.
Как в сорок первом немецкие самолёты гнали их по огромному полю. Бежавшему впереди Степана бойцу, снарядом авиационной пушки срезало голову, и он ещё какое-то время бежал без головы.
Степан сам убивал и его убивали не раз. Но то, что случилось сейчас, поражало своей нереальностью. Живой улыбающийся Костя, единственный сын, которого он только что держал в объятьях…
И эти окровавленные клочья вокруг воронки…
Расстелив плащ-палатку разведчики собирали то, что осталось от Кости. Нашли обгорелый планшет. Отдали, пришедшему от батальона старшему лейтенанту.
Он подошёл к сидящему на земле безучастному Степану. Присев рядом, закурил сам, потом протянул раскуренную папиросу.
– Вот что, старалей, – заговорил вдруг Степан. – Он у нас с женой один был. Мать узнает – не переживёт. Прошу, не посылай похоронку. Напиши, что пропал без вести – тела-то все равно нет. А так – всё какая-то надежда у неё будет.
– Хорошо, – старший лейтенант бросил окурок и быстро пошёл догонять уходящий батальон.
***
– Вот так, Захар, – закончил рассказ Степан. – Что делать – не знаю. Не могу я Фросе рассказать. И уйти, не рассказав, тоже не могу. Может, придёт время, расскажешь ей, пусть простит она меня.
Он, сморгнув слезу, замолчал.
Захар, натужено прокашлявшись прокуренными лёгкими, произнёс:
– Ладно, Степан, ты не беспокойся. Как просишь, так и сделаю.
Подождав, пока больной задремлет, он тихонько поднялся и вышел из избы.
Ефросинья, бросив вилы, подошла к крыльцу.
– Ну, как он?
– Задремал.
– Помрёт ведь, – Ефросинья заплакала, прижав к губам конец повязанного на голову платка. – Костя скоро вернётся, а он не дождался.
Пристально посмотрел Захар в её светлые, в окружении добрых морщинок, глаза.
Потом домой пошёл.
По дороге окончательно решил:
«Ничего ей не скажу. Не возьму грех на душу. Пусть надеется…»
Автор: Петр Жук