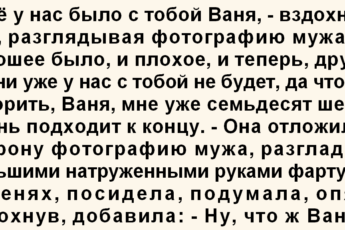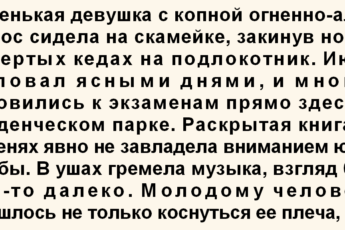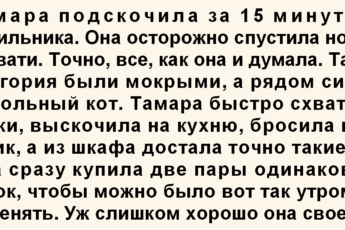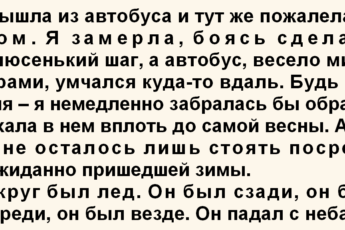Уютно и тихо в доме: часы тикают, оранжевый свет из-под абажура, мягкий такой, кажется даже, будто он мурлычет. Николай Степанович захлопывает книгу и очки снимает. А тут телефон вдруг запиликал.
— Не спишь ещё, дед?- спрашивает телефонная трубка.
— Да пока ещё нет, но собираюсь…
— А я сижу тут у вашего подъезда на лавочке, на окна ваши смотрю.
— Так чего же смотреть! Поднимайся…
— Ой, нет, дедунь, лучше ты выйди. Посидим, поговорим. Погода хорошая и не холодно совсем. А то бабушка сразу суетиться начнёт, кормить меня, расспрашивать, причитать, будто я опять похудел и на папу ещё больше похож стал. А мне серьёзно поговорить нужно.
Трубка несколько молчит, потом старик отвечает:
— Хорошо. Тогда скажу Леночке, бабушке, то есть, что забыл вынести мусор…
И в телефоне отбойно запикало. Потом из прихожей вскрик: «Я скоро, ложись, не жди меня», и дверь входная хлопнула.
Старик зашаркал домашними шлёпанцами вниз по ступенькам, чтобы выслушать, что расскажет ему сын его сына. Он понимает, дело серьёзное, коли Алёшка так поздно пришёл, пусть даже и в одном дворе они живут. Всё равно боязно. Четырнадцать ему всего. Посоветоваться-то не с кем, отца четыре года назад сбил на пешеходном переходе какой-то пьяный водитель, когда тот так же вот поздно возвращался домой.
И остались бы Алёшка с мамой одни-одинёшеньки на белом свете, если бы не старики, Серёжины родители. А Серёжа – это отец Алёшкин и, стало быть, Николай Степанычев сын. Единственный, между прочим.
Выходит старик в почти ночной уже двор, а на улице и вправду божья благодать. Тихо, тепло, хоть уже и почти середина сентября, того самого, нашего, когда лето уже закончилось, а осень вот-вот начнётся, но пока ещё можно думать, что лето угасает. Просто прохладно несколько. Холодным теплом вдоль улиц веет, но во дворах, в затишке угреться ещё можно.
Алёшка сидит на лавочке и на дверь в дедов подъезд смотрит. Старик подходит к внуку, тот встаёт навстречу, но первым руку не протягивает: дед же учил его, что первым, если сочтёт нужным, подаст её старший.
Здороваются и оба садятся. Дед чуть раньше.
— Я слушаю, говори… — звучит голос старика.
Алёшка тут же начинает:
— А чего говорить-то? Он сегодня пришёл. С чемоданом. И сразу, в прихожей сказал, что должен со мною поговорить. Мама упорхнула на кухню, а он и бухнул: «Ну, что, Алексей, видно теперь будем жить вместе. Ты – как? Надеюсь, не возражаешь? Ведь давно уже ясно, что мы с мамой твоей любим друг друга и намерены создать семью…»
Я чёт, дед, растерялся даже сначала. Мама-то со мною не разговаривала об этом, не предупреждала. Вот я, значит, плечами пожал и с испугу в комнату к себе ушёл. Сижу там такой, смотрю в стенку и ни о чём не думаю. Обидно только, что мама моя предательница. Первые два года после папиной смерти каждое воскресенье на кладбище ходила, меня с собой брала. Там долго у могилы сидела и то плакала, то вздыхала просто, то что-то сама себе рассказывала. Я ей не мешал, стоял в стороне просто и ждал.
А потом Борис Аркадьевич этот появился. И походы на кладбище стали всё реже, реже. А недавно она их с папой фотографию, ну, которая свадебная, где они смеются и головами друг к другу прижимаются, ко мне в комнату перенесла. «Пусть у тебя теперь стоИт», — говорит.
Я потом решил, что к вам с бабулей жить перееду, чтобы не мешать… этим, как их, «молодожёнам». А затем подумал, что сначала с тобою поговорить надо. Ты как? Что думаешь?
Дед в одну точку смотрит и лезет в карман, откуда достаёт уже покуренную сигарету. Прикуривает её, потом, словно вспомнив, говорит внуку:
— Бабушке только не говори, что я курить так и не бросил после инфаркта. Привычка, знаешь ли…
«Ладно?» спрашивает старик у внука уже только глазами, и тот кивает в ответ. Курит дед молча, а Алёшка его и не торопит, потому как понимает, что тот с мыслями собирается и важное сказать хочет.
— А мне, Лёш, думаешь, не обидно было, когда мама твоя нас с ним знакомила? Помнишь, когда мы с бабушкой на твой день рождения пришли, а он суетился за столом как хозяин уже и коньячку мне всё подливал? Обидно. Да ещё как! Ведь жена моего сына, мать внука нашего, собирается стать чужой женою.
Я себе даже представить этого не мог. Потому и сидел весь вечер так, словно это он на мне жениться собрался. А потом, когда домой пошли, бабушка твоя под руку меня взяла, подвела вот к этой самой лавочке, где мы с тобою сейчас сидим, и посидеть предложила. Присели. Она ко мне прижалась и говорить начала:
— Ты не горячись, Николаша, и Верочке ничего говорить не вздумай. Нет в том ни её вины, ни предательства – я ведь чувствую, что ты сейчас именно так об этом думаешь. Ведь верность памяти хранить – это совсем не значит, что нужно уже при жизни жить перестать. Она же ещё только половину отпущенного ей срока прожила. А вторая, лучшая, наверное, половина как же?
Покроется толстым слоем траура и скорби и не будет в ней места новой радости и новой жизни? Не-е-е-ет, дорогой, неправильно это. Мне кажется, что и Серёжа наш такой преданности не одобрил бы. Можно так, можно: помнить с благодарностью одного и полюбить другого. Это уже иная любовь, и нет в ней никакой грязи и предательства…
Теперь, Лёш, и я так думаю. А ещё, знаешь, чего хотел бы? Чтобы мама твоя со своим новым мужем обязательно ещё одному ребёнку жизнь дали. И пусть по крови он (или она – какая разница!) мне не внук, но тебе братом или сестрою-то будет. И когда мы все – сначала мы с бабушкой, потом твоя мама с Борисом Аркадьевичем – уйдём, ты один не останешься. Будет на земле обязательно хотя бы один человек, тепло жизни которого и тебя согреет.
Ты мне сейчас не отвечай ничего, не горячись, подумай и домой ступай.
А я мусор понёс, а то бабушка ведь ждать меня будет, не уснёт, разволнуется, а у неё – сердце…

Автор: Олег Букач