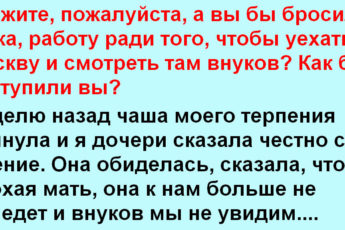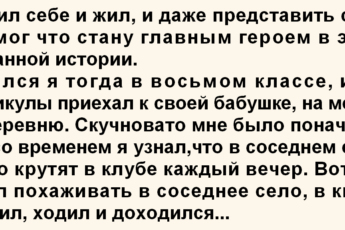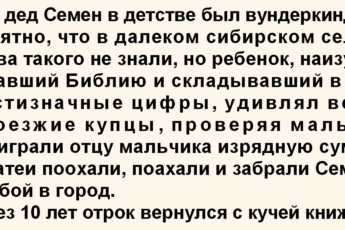Теперь отпуск окончательно испорчен. Павел с силой пнул камень, который вместо того, чтобы отлететь далеко, споткнулся о соседний, больно ударил Пашу по ноге и, откатившись, замер в пыли.
Паша стиснул кулаки, понял, что сейчас всё-таки разревётся, и бегом ринулся к спасительной калитке. Сжимая кулаки и стискивая зубы, пересёк двор, который успел ему наскучить за несколько дней, проскочил быстрым шагом дом, летнюю кухню и сарай, в огороде, наконец, плюхнулся в траву и дал волю слезам.
Зло размазывая слёзы по щекам, он пытался придумать страшную месть для этой ужасной девчонки, из-за которой рухнула Пашкина надежда найти себе компанию. Месть придумывалась одна глупее другой, поэтому Пашка переключился на мысли о том, что, пожалуй, он мог бы поговорить с мамой, что пора ехать домой, если уж поехать на море не получилось.
И эти мысли тоже были глупыми. Паша прекрасно понимал, что родители приехали сюда не отдыхать. Отцовская тётка, которая оказалась не тёткой вовсе, а бабкой, попала в больницу, и родителям нужно было решать какие-то дела, хотя какие именно, Пашка не знал, да и неинтересно подслушивать долгие и нудные взрослые разговоры, которые велись приглушёнными напряжёнными голосами.
Где можно встретить детей, Паша знал. Возле смешного, похожего на грузовой вагон магазинчика в центре посёлка было что-то вроде детской площадки. Там стоял покосившийся турник, качели-вертушки и остатки бывшей песочницы, в которой песка не было, а росли одуванчики и трава. Там Пашка и видел детей.
Уже приближаясь к магазинчику, Паша понял, что значит «неподходящая одежда». Раньше, когда мама говорила про неподходящую одежду, Пашка только хмыкал. А теперь почувствовал себя неуютно в своих лёгких песочного цвета штанах, белоснежной футболке и яркой ветровке. Ещё и стрижка – бритый, приятный на ощупь затылок и длинная чёлка, которую делали к морю и которая очень нравилась Пашке в Питере, – здесь была явно «неподходящей».
Дети у магазина были разномастные и разновозрастные и одеты, кто во что горазд, но явно не так нарядно, как Паша. Напустив на себя вид по возможности независимый и равнодушный, Паша прошёл мимо этой пёстрой стайки. В магазине соображал, что бы купить, купил ненужную жвачку и, вдохнув поглубже, решил всё-таки подойти к детям, не съедят же его, в конце концов!
– Привет, – как можно небрежней попытался произнести Пашка. В стайке произошло волнообразное шевеление, здороваться с ним никто не торопился, только высокий и худой, взрослый на вид парень спросил: «Ты, что ли, из Питера к бабке Тоне приехал?».
Пашка кивнул, выпрямил плечи и сообщил, что его зовут Пашей.
Все посмотрели почему-то не на Пашу, а на девчонку, которая стояла чуть в стороне, а к её ноге прилип какой-то мелкий пацан.
Девчонка смотрела на Пашку прищуренным острым взглядом, и Паша подумал, что она вся немного «острая». Высокие острые скулы, прямой острый нос, острые локти и коленки.
Девочка растянула губы в неприятной усмешке и спросила у Пашки, не боится ли он запачкать свой модный костюмчик, мол, деревня всё-таки, а не курорт. И она сказала это как-то остро и насмешливо, а слово «курорт» прозвучало почему-то обидно, и ребята захмыкали.
Пашка знал, что уступать в таких ситуациях нельзя и надо отвечать, иначе будут насмехаться потом долго. Очень надеясь, что не зальётся румянцем, и уши не заполыхают на глазах у всех. Скользнув по линялой футболке и мятым шортам, остановил взгляд на старых выцветших и таких же линялых кедах и сказал:
«Не подскажешь, на какой помойке кеды нашла? Я бы тоже поискал и оделся бы похуже».
Острая девочка вдруг сделала два стремительных шага в сторону Пашки, размахнулась и ударила его кулаком по уху. Пашка, не готовый к нападению, отшатнулся, кулак проехал ещё и по скуле, и Пашка, нелепо взмахнув руками, запутавшись в собственных ногах и странно крякнув, приземлился на пятую точку в жёлто-серую пыль. Нет. Все не смеялись, а именно ржали, хотя мама бы не одобрила подобного выражения. Парень, который спрашивал до этого Пашку, даже всхлипывал. Пашка вскочил на ноги, сжал кулаки, но, во-первых, не драться же с девчонкой, а во-вторых, пожалуй, ребята будут не на его стороне.
«Давай-ка, дуй к мамочке с папочкой», – напутствовала его острая девочка. Высокий парень сказал: «Таська, ну ты огонь», – и все снова заржали.
За обедом Паша продолжал искать повод, чтобы предложить маме уехать. В конце концов, отец предлагал, чтобы они ехали вдвоём на море, а папа бы сам поехал сюда решать вопросы. Эта идея не нравилась Пашке, потому что с мамой в отпуске совсем не так весело, как с папой. Маму такой вариант тоже почему-то расстраивал. И тогда, больше недели назад, Пашка даже уговаривал маму, что, конечно, надо ехать с папой. Деревня, про которую так упоительно рассказывал отец, представлялась Пашке едва ли не лучшим местом, где живут приключения и свобода.
Рыбалка, ночные костры, заповедник, в котором водятся звери из Красной книги, речка, в которой можно купаться сколько хочешь, сеновал – всё это было куда круче «курорта». Вспомнив про курорт, Паша скривился и надумал хотя бы спросить, решаются ли те самые вопросы, и когда, в конце концов, поедут если не на море, то домой. Потому что пока родители заняты делами, ни о каких приключениях и рыбалках даже заикаться не стоило. И даже речка, которая была прямо за огородом, недоступна. Паше приказали строго-настрого не ходить одному на купальню.
За обедом Паша ёрзал и пропустил почти весь родительский разговор, и уже собирался заговорить сам.
– Да, конечно, надо сходить познакомиться с детьми, – как-то неуверенно сказала мама, и папа так же неуверенно кивнул, а Пашка и вовсе открыл рот и замер.
– Мить, мы всё равно не можем оставаться здесь бесконечно. Завтра поговорим, наконец, с врачами, убедимся, что с детьми всё в порядке, и… Митя, ты меня слушаешь?
Сбитый с толку Паша переводил взгляд с одного родителя на другого, пытаясь сообразить, с кем надо знакомиться, и понимая, что, похоже, мама и сама не собирается оставаться здесь. Он не успел ничего спросить, потому что со стороны калитки загрохотало, и зычный хриплый голос потребовал: «Хозяева, открывай!».
Папа первый выскочил из летней кухни во двор, за ним Пашка, а мама во двор выйти не торопилась. Отец не успел сделать и шага к калитке, как сверху над калиткой показалась красная рука с пухлыми пальцами и страшным облупленным маникюром, от вида которого у Пашки мелькнула мысль про зомби. В этой руке была палка, которой рука ловко подцепила крючок, и в открывшийся проём ввалилась небольшая процессия, от которой у Пашки похолодело в животе.
Первой вошла странного вида тётка. Именно тётка, а не женщина, что бы не говорила мама. На ней был спортивный костюм от двух разных комплектов, короткие волосы, разноцветные, как у счастливой пятицветной кошки, стояли дыбом, а лицо, казалось, кто-то лепил из пластилина и не долепил. Да и пластилин у неведомого скульптора был, очевидно, смешан из разных цветов: в красное затесались оттенки серого и синие прожилки.
Куда большим шоком, чем страшная пластилиновая тётка, вокруг которой разливался отвратительный кислый и резкий запах, для Паши было то, что, держась на расстоянии от тётки, во двор просочилась та самая острая девочка, а в её линялые шорты вцепился всё тот же мелкий мальчишка. Девочка мазнула по Пашке быстрым своим острым взглядом и отвернулась, а у того, казалось, глаза вот-вот покинут свои орбиты.
Тётка шевелила, не переставая, своими пластилиновыми губами. Пашка не знал, на кого смотреть. Тётка говорила громко, придерживала калитку и как будто обращалась не только к отцу и матери, но и к кому-то, кто притаился за калиткой. Девчонка делала вид, что её здесь и вовсе нет, смотрела скучным взглядом куда-то поверх крыши дома. У отца лицо окаменело, а мать, выдавливая улыбку, тихо сказала: «Давайте хоть со двора уйдём».
– Чего пялишься? – зло спросила девчонка, когда отец, пропустив вперёд мать и пластилиновую, плотно прикрыл тяжёлую дверь в летнюю кухню, – зенки проглядишь!
Пашка плечом дёрнул, подумаешь, мол! И чтобы не оставаться один на один с врединой, развернулся и пошёл в огород.
Там он постоял возле рабицы, поразглядывал кур, размышляя, заметят ли взрослые, если вот сейчас он всё-таки пойдёт к купальне? И вдруг разозлился. Что бы там себе эта девчонка не навоображала, но тут он на своей территории, что захочет, то и будет делать! Решительно зашагал к дому.
Мелкий мальчишка сидел под виноградными дикими лозами на скамеечке и рот открыл, когда увидел Пашку, а потом рот захлопнул, а глаза выпучил. Пашка озирался, не увидев девочку рядом с пацанёнком, и услышал, как в доме что-то тихо, но увесисто бумкнуло.
В два прыжка он вскочил на крыльцо, рванул на себя дверь и в проёме за лоскутной шторой, разделяющей крохотную прихожую с кухней и первую спальню, увидел, как мелькнула девчонкина футболка. Сердце ухнуло, как будто Пашка сделал что-то преступное, он рванул штору, уставился на замершую девчонку и, показывая на её руки, которые та прятала за спиной, спросил:
– Что у тебя там?
Девчонка сузила глаза, вся напружинилась и прошипела:
– Не твое дело, ну-ка, пусти!
– Это мой дом! – повысил голос Пашка, – ну-ка, руки покажи! – Он был уверен в себе. Не в том, конечно, что он поборет эту острую, а в том, что она сама не посмеет тут на него нападать. Побоится взрослых.
Он сделал решительный шаг, рванул девчонку за руку и уставился на рассыпанные монеты и несколько бумажных мятых купюр.
– Ты что, воровка? – Пашка и сам не мог в это поверить. Девчонка выглядела задирой, а не воровкой. Хотя, как выглядят воры, Паша едва ли смог бы описать.
Лицо у девочки стало совсем злое и немного несчастное, глаза покраснели, она прошипела: «Уйди, это моё, уйди, говорю». Присела и трясущимися руками стала неловко, будто песок, сгребать монеты.
– Таська! – раздалось со двора, – ты куда, оторва, делася?!
Девчонка схватила Пашку за руку и затараторила тихо-тихо:
– Не говори, не говори, собери, спрячь! – у неё были ледяные и очень тонкие пальцы. Из глаз уже готовы были сорваться слёзы, Пашка обалдело кивнул, сам не понимая, что именно он ей обещает. Девчонка отошла на шаг, быстро ладонями вытерла глаза и шмыгнула мимо Пашки.
Ещё какое-то время он смотрел в окно, как тётка, грубо тыкая пальцем-обрубком в спину девочке, шла к калитке, видел застывшие неестественные лица родителей. И только когда отец медленно закрыл на огромный штырь калитку и повернулся к дому, Паша быстро, роняя и снова подбирая монетки и купюры, затолкал их под футболку. И уже когда понял, что родители пошли не в дом, а снова в летнюю кухню, плотно закрыл штору и ссыпал деньги в потайной карман своего рюкзака. Пересчитывать деньги не стал, они жгли ему руки, он и сам не понимал, зачем он их прячет. Отчего не пойдёт к родителям и не расскажет про то, что случилось. Преступный сговор с острой девчонкой морозил ему спину, но родителям он так ничего и не сказал.
Под утро Пашка заснул таким крепким сном, что никак не мог проснуться и сообразить, где он. Полночи уснуть не мог, вертелся, думал про деньги в кармане рюкзака и пытался понять про сложные родственные взаимоотношения. Таська и мелкий мальчишка, Ванюшка, приходились ему вроде бы троюродными. А пластилиновая тётка ни к Пашке, ни даже к девочке не имеет никакого отношения, но она ей мачеха.
Вчера вечером он отчаянно напрягал слух, таился под окошком летней кухни, где соседка, которая забрала баб Тонину козу и «смотрела» кур, обстоятельно, отвлекаясь на миллион отступлений, рассказывала и рассказывала.
Пашка злился и думал, что за такой пересказ в школе нахватал бы двояков, будь здоров!
И ночью пытался соединить воедино отца, его двоюродного брата, Тасю и Ванюшку.
Их мать погибла. Работала на каком-то предприятии, там кто-то чего-то недоглядел, а она погибла. Её муж и отец Таси «искал правды, да где ж её найдёшь», – причитала соседка и дальше продолжала, путано и сложно, про чьи-то вообще чужие родственные связи. Паша только и понял, что Тасиного отца посадили в тюрьму. У Пашки аж холодело внутри, и воспоминания о спрятанных деньгах заставляли вздрагивать и чувствовать самого себя вором.
Вернулся Тасин отец «досрочно» и «другим человеком», за небольшой срок тюрьма его поломала. Оттуда же и «ведьму свою» привёз. А полгода назад умер, напившись пьяным.
Никак у Пашки всё не складывалось. Про брата отец рассказывал, и отцовский брат представлялся Пашке сильным, смелым и весёлым парнем. И тюрьма, и пьянство, и эта страшная тетка никак не соединялись в одно целое.
И теперь, когда он слышал во дворе голоса, и кто-то всё время хлопал дверью, и калитка бумкала во дворе, он натягивал на голову одеяло и никак не желал просыпаться.
– Паш, Пашенька, сыночек, вставай, – мама трепала волосы, гладила по затылку и тихонько тормошила, проводила ласково пальцами по спине, забираясь под футболку – Пашенька, надо просыпаться, нам с папой уехать надо, вставай.
Пашке только сильнее хотелось спать.
Хорошо, что он додумался штаны натянуть. Во дворе было полно народу, кто-то уходил, кто-то приходил, и лица у всех были такие, что кто угодно бы понял, что случилась беда и горе, и теперь все будут говорить шёпотом, и суетиться, и качать печально головами. Даже если бы отец коротко не сказал, что бабы Тони больше нет, Пашка и так уже обо всём догадался. Мать собиралась быстро и на ходу велела Пашке поесть. Потом остановилась, взяла его за плечи, спросила, вглядываясь в лицо с тревогой:
– Паш, ты точно здесь побудешь?
Паша кивнул.
Отец, проведя рукой по Пашкиной макушке, сказал: «Ты на хозяйстве за главного. Телефон только при себе держи».
И Паша снова кивнул. У взрослых так часто. Когда происходит что-то важное, они только делают вид, что им есть дело до детей. Они говорят с детьми и дают какие-то указания, но на самом деле никто даже проверять не будет, выполнил ты их или нет.
Идти к соседке Пашка отказался, да никто и не настаивал.
Пашка слонялся по двору, по дому и летней кухне. Что делать в качестве старшего по хозяйству, он совершенно не мог представить.
Решил выйти за калитку, потому что даже обширный двор и огромный огород, простирающийся почти до самой речки, казались замкнутым, тесным пространством.
Он только калитку успел открыть и сделать шаг, как издалека, завывая, как питерская система оповещения, хрипло и надсадно раздалось:
– Та-а-а-аська! Ах ты, пога-а-нка!
Всё в том же разномастном костюме, с лицом, напоминавшим красный сигнал светофора, размахивая руками, как будто силясь удержать баланс на канате, к нему приближалась Тасина мачеха.
Уже издалека она, не стесняясь крепких выражений, велела Пашке позвать «эту дрянь» – она знает, где та спряталась.
Пашка вцепился в калитку. Во-первых, он честно боялся эту красномордую тётку. Во-вторых, на другом конце улочки стояла стайка ребят, кто пешком, кто с великом, и в одном он точно узнал вчерашнего долговязого, у которого, невиданное дело, был мопед! Про мопед, которого Пашка никогда не видел, он скорее догадался.
На Пашкино счастье наперерез тётке уже выскакивали ближайшие соседи. Та орала про Таську – дрянь неблагодарную, потом заваливаясь на бок, выла: «Тонька, дрянь». А когда на неё заругались, то стала оправдываться, что теперь ей одной «этих байстрюков и паскудников кормить».
Если бы не ребята, рассматривающие всю сцену и Пашку, Пашка бы давно уже заперся не то, что во дворе, но в доме бы на все замки закрылся! А теперь стоял, стараясь незаметно вытереть потную ладонь о джинсовую штанину.
– А мы знаем, где Таська, – хрипло сообщил долговязый, когда вся компания обступила приклеившегося к калитке Пашку. Длинный смачно сплюнул, сощурившись, долго смотрел на Пашку и наконец изрёк, – можем показать, только этой шаболде, – он кивнул в ту сторону, куда увели мачеху, – знать нельзя, понял? Её сожитель вернулся с вахты. Хана Таське будет.
От ужаса у Пашки вспотели не только ладони, но и по спине предательски потёк пот, а губы пересохли. Конечно, никуда с этими хулиганами отправляться нельзя. Он все правила безопасности наизусть знает с детского сада! А в школе им так наталдычили про эти самые правила безопасного поведения в городе, что разбуди Пашку ночью, он, не просыпаясь, всё расскажет. Даже с приятными бабушками и милыми детишками никуда ходить нельзя, а что уж говорить про тех, от кого ощутимо исходит угроза?!
Парни рассматривали Пашку, а Пашка – парней и уже придумывал, как можно выкрутиться, мол, отец на хозяйстве оставил. И сразу понял, что ржать над ним будут похлеще вчерашнего. Куда ему, стриженому городскому пацану – хозяйство деревенское!
– У тебя веломашина есть? – спросил кто-то из мальчишек.
И Пашка уже обрадовался, потому что велика у него нет, а он, видимо, нужен, но тот, кто спрашивал, вдруг подкатил к Паше свой облупленный древний велосипед и сказал:
«Я одолжу».
Отступать было некуда. Пашка, как приговорённый перед казнью, кивнул, сказал: «Я щас», – и нырнул во двор. Он нашёл складной ножик, запихал его в карман и ещё подумал – не позвонить ли отцу? Но понимал, что уже не позвонит.
Пашка едва управлялся с невиданным великом. У него велосипед со скоростями и комплектом колёс для асфальта и загорода. В своём велике отличная сидушка, пружинящая, отлаженная, манёвренный ладный руль. Этот допотопный агрегат Пашку слушаться не желал, а из протёртой и облупленной сидушки что-то торчало и кололо на каждой кочке.
За кромкой леса был стадион, старый и заброшенный, а за стадионом, отец рассказывал, такой же заброшенный детский лагерь. Только в одном из трёх корпусов ещё виднелись кое-где целые окна, в остальном лагерь отдавал фильмами про конец света и зомбаков. Ни ножик в заднем кармане джинсов, ни мобильник в переднем Пашку больше не утешали. Он точно знал, что поступил глупо.
У стадиона остановились, долговязый объяснялся знаками. Оглядываясь, не видит ли кто, проехали по тропинке за стадион, пробрались через какие-то кусты, там остановились возле наваленных старых и ломанных оконных рам, покорёженных остатков кроватей с панцирными сетками.
– Машины тут оставим, – распоряжался долговязый.
Пока огибали корпуса со стороны леса, длинный парень рассказывал, что зимой здесь бомжи живут, и только весной деревенским их удаётся выгнать. Наконец, остановились перед, кажется, заколоченной дверью. Долговязый потянул на себя дверь, три раза коротко свистнул в разверстую тьму, а Пашка и боялся потерять от страха сознание, и мечтал об этом.
– Э, Таська! Это мы, – сообщил темноте долговязый.
Где-то стукнуло и зашуршало, и в темноте мелькнул свет фонарика, а следом за лучом появилась Тася. Она мотнула головой, и мальчишки, один за одним, пробрались за дверь. Как ни странно, но присутствие девочки, которая вроде бы приходилась ему троюродной сестрой, Пашку успокоило.
Пашка никогда ничего подобного не видел и изо всех сил старался не хлопать глазами и не разевать рот. В большой комнате с облупленными стенами стояли четыре кровати. Две из них, составленные вместе, были даже заправлены разномастными дряхлыми одеялами, и на них лежали подушки в старых выцветших и дырявых наволочках. Был тут и стол, и стулья, всё облезшее, выцветшее. У стола сидел Ваня и грыз сухарики из пачки: доставал сухарик, рассматривал внимательно, облизывал со всех сторон и только потом отправлял в рот. Они что, живут тут?
Тася села на сдвоенную кровать. А долговязый достал из своего рюкзака большую пластиковую бутылку с лимонадом, налил Ванюшке в блеклую пластмассовую чашку. Все молчали.
– Тась, померла баба Тоня, – наконец сообщил долговязый, но на Тасю смотреть избегал.
Тася кивнула. Её лицо, как будто ставшее ещё острее, было таким бледным, что Паша подумал, что она сама, как мёртвая. Глаза были тусклыми, как у старушки, с красной каймой на веках, а под глазами залегли синие тени. Прядь волос неопрятно выбилась из-под резинки, и сами волосы были, очевидно, давно не мыты. Весь её вид выражал такое несчастье, какого не бывает у детей. И мелкий Ванюшка выглядел не лучше. Его футболка с потёртыми моськами каких-то мультяшных персонажей была в серо-коричневых разводах, на щеках застыли грязные размазанные дорожки.
Тася низко склонила голову, плечи у неё вздрагивали. Ваня отложил сухарик, лицо у него скривилось, он заморгал часто-часто. Все топтались и сопели растерянно и смотрели на Пашу. А Пашка знал, понимал, что надо что-то делать, но совершенно не понимал что.
Он понимал, что происходящее – ужасно. Даже ужасней, чем смерть бабы Тони, которую он в глаза не видел. И что он, никогда не знавший на самом деле беды, только её отголоски, вот эту беду вдруг начал чувствовать.
Он решил, что надо звонить отцу, достал телефон и снова сунул его в карман.
– Паш. Ты мне сможешь деньги отдать? – спросила срывающимся голосом Тася. – Вот, Серёне отдай, – махнула в сторону долговязого. – Это мои деньги, честно. Я собирала. Мне бабушка давала потихоньку, а я копила на подарок ей, – совсем тихо и очень тоненько закончила она.
Нет, – твёрдо сказал Пашка, и когда все на него уставились, снова повторил, – нет! Надо домой. К нам домой, – добавил в ответ на вопросительные взгляды. – Родители приедут, обязательно разберутся.
Тут все стали галдеть и рассказывать наперебой, сбиваясь и начиная сначала. Что мачеха, шалава и алкашня, Таське официально – мать. Как они разберутся? А Паша им отвечал, что есть органы опеки, рассказывал, как у них в школе, в начальной, целый скандал был из-за родителей-алкоголиков, но взрослые разобрались.
– И в детдом отдали того мальчика? – зло и снова пискляво спросила Тася.
Судьбы несчастного одноклассника, которого обсуждала не только вся школа, но даже весь интернет и телевиденье, Пашка не знал. И снова растерялся. Наверное, как-то ещё можно решить вопрос?
– Всё равно надо домой! – упорствовал Паша.

С планом, составленным долговязым Сергеем, Паша был согласен. И не только потому что у него самого плана не было. Главным плюсом плана Серёни была тайная и шпионская доставка Таси и Вани в дом бабы Тони. Встречаться со страшной красномордой тёткой Паша боялся до дрожи в коленях и потеющих рук. А уж после подробностей не только о самой тётке, но и о сожителе, который, по уверениям парней, «срок мотал не за кражу в магазине, поди», холодел весь с головы до пяток и надеялся, что родители вернутся быстрее, чем страшная тётка снова придёт искать Тасю и Ваню. Пацаны знали, как пройти огородами, через цыган и речку. До «цыган» двигались вместе, пряча в стайке Тасю и Ваню. А когда Сергей с Тасей и другой пацан с Ваней на раме съехали за покосившиеся серые постройки, где в пыли и грязи сидели черноволосые и черноглазые мелкие дети, Пашке снова стало страшно.
Во дворе парни всё ещё сторожили их, пока Тася собирала какие-то вещи в доме, договаривались, что встретятся после обеда на купальне, если Пашины родители ещё не приедут.
Тасю с Ваней пока спрятали в сарае, на сеновале. И вовремя, потому что как только Тася с Ванюшкой поднялись по деревянной самодельной лесенке наверх, во двор один за одним стали приходить люди, возглавляемые баб Тониной соседкой. Она хозяйничала на летней кухне, уговаривала Пашу поесть, а Паша подумал, что Ваня с Тасей кроме сухариков с химической посыпкой и лимонада ничего не ели, и от обеда отказался. Вырваться от соседских любопытствующих расспросов никак не удавалось.
Когда такси привезло родителей, Паша чуть не разревелся от облегчения. Вот сейчас он всё им расскажет, и судьба Вани и Таси будет решена.
Но родителям было не до него. Они что-то тихо обсуждали с соседями. И как только отец отвлёкся и отошёл в сторону, Пашка кинулся к нему, но отец смотрел мимо Пашки, приговаривая: «Ничего, ничего, Паш». А у матери было усталое, немного сердитое и, что уж совсем странно, растерянное лицо.
Паша заходил в сарай, шёпотом спрашивал Тасю, как, мол, они? И Тася шёпотом говорила, что Ваньке надо в туалет, но они пока терпят.
Пока все сгрудились в летней кухне, Пашка потихоньку вывел Тасю и Ваню за калитку в огород и сторожил эту калитку, леденея. Он страшился каждого звука и сам не понимал, чего именно боится.
Двор не умолкал до самого вечера. Всё, что удалось Пашке – это в общей суете унести какие-то здоровенные липкие плетёные булки из летней кухни, но даже набрать воды или вынести молоко или йогурт из холодильника он не решился.
Он не знал, приходили ли парни на купальню, но когда понял, что родителям и всем взрослым вообще не до него, забрался по лестнице на сеновал к Тасе и Ване. Прислушивался к звукам со двора, готовый в любой момент предстать перед родителями.
Они долго молчали, Ванька уснул. Тася, не меняя застывшей отрешённой позы, наконец нарушила молчание.
– Ничего твои родители не сделают, – голос у неё был тусклым, и слова как будто крошились и ломались, – мы с Ванькой сбежим. Ты только нам деньги отдай.
Паша морщился, молчал. Деньги он не пересчитывал, но даже беглый взгляд на те монеты и купюры говорил о том, что ни на какой «побег» их не хватит. Тася продолжала говорить надтреснутыми словами:
– Бабушка сколько порогов обивала. Ей нас не отдали. Она старенькая. И инвалид. Говорили, что могут только лишить прав эту жабу, а нас в детдом. Да и лишать её никто не торопится.
Тася говорила и говорила, и слова становились всё более хрупкими, крошились, как обгоревшие листы бумаги, оседали пеплом. Она говорила как взрослая, хотя Пашка был почти уверен, что она не старше его!
– Ты мою маму не знаешь, – резко сказал Паша, – она придумает что-нибудь!
– Заберёт нас к себе? – едко и горько спросила Тася, у неё голос снова стал тонким и писклявым, она отвернулась, и острые плечи снова поникли. Паша тоже отвернулся. Про «заберёт к себе» он вообще не подумал. А сейчас пытался представить маму, Тасю, Ванюшку и вот это «заберёт к себе», и картинка не складывалась. Тася всё не поворачивалась и он потихоньку стал её рассматривать. Острые коленки, локти и скулы – ещё можно было оправдать. Но сальные волосы и грязные разводы на одежде выглядели так неопрятно! Паша даже представил, как у матери поджимаются губы, и несмотря на улыбку, делается такое лицо, которое говорит о крайнем неодобрении. Смутился, вспыхнул румянцем, порадовался, что в темноте сарая этого не видно, отвернулся, когда Таська пристально на него посмотрела.
Ужинать Пашку всё-таки загнали. Он не знал, как подойти к матери, что сказать, и вдруг решил поговорить сперва с отцом.
Он настойчиво дёргал его за руку, пока тот что-то обсуждал с мужиками. Отец руку отнял, сжал Пашино плечо. И Пашка решился: «Пап, мне поговорить с тобой надо». А отец, всё так же глядя мимо Пашки, ответил, что, мол, он занят, а Паша пусть пойдёт к маме.
Пашка совсем отчаялся. Конечно, все Пашкины дела всегда решает мама. Папа столько работает, что для него остаются только Пашкины успехи, пятёрки, победы в соревнованиях и олимпиадах. Папа говорит одно и то же: что когда-нибудь, когда у него будет отпуск, они с Пашкой отправятся на поиски приключений! И тогда он тоже не слушает про Пашины дела. Он рассказывает про детство, про студенческие годы, про брата и эту деревню. Он становится очень молодым и совсем весёлым, и вся его серьёзность улетучивается. И Пашка вместе с ним мечтает про костры, рыбалки, походы и звёзды на чёрном-пречёрном небе. В городе таких никогда не бывает. Только в поле.
И вот, наконец, у папы случился отпуск. И Пашка несколько месяцев мечтал, что они поедут на море. Отец обещал и лодку, и катамараны, и научить нырять с волнореза и в волну. А вместо этого они поехали сюда.
Пашка вздыхал и думал, что придётся всё рассказать матери.
До самой темноты взрослые так и решали свои взрослые дела. А потом, когда все разошлись, мать всплёскивала руками, и было похоже, что она не очень хочет оставаться один на один с отцом. Она суетилась деловито, как на окончание учебного года, требовала набрать бак в «помывочной». И Пашка долго и обречённо ждал, пока отец, гудя на всю Ивановскую насосом, набирал холодную воду, а потом таскал вёдра с горячей водой. Пашка мылся первым, а потом сидел укутанный, чтобы не простыть, а мать сушила ему волосы маленьким дорожным феном, славно пахнущим мамиными духами и кремами.
Потом пил чай, а родители мылись по очереди, и отец жаловался, что кипятка не хватило. Когда они, наконец, все собрались в кухне, мать сказала, что Пашке пора спать. Она собиралась проводить Пашу, но он уверил, что сам уляжется. Пашка вышел и притаился под окошком. Родители говорили тихо, и разобрать слова у Пашки не очень получалось, а потом мать и вовсе закрыла деревянную узкую форточку.
Замирая, снова чувствуя свою преступность и враньё, он прокрался к сараю.
Таська была внизу. Вид у неё был одновременно несчастный и решительный.
– Покарауль, – пискнула она и снова пробиралась за калитку в огород, в деревянный уличный туалет.
Уже в сарае она схватила Пашу за локоть и быстро-быстро заговорила:
– Паш. Нам надо помыться и переодеться. Нам в таком виде, – шептала Тася, – показываться твоим нельзя.
Пашка собирался перебить. Он так устал и от тайны, и от страха, что прямо сейчас был готов тащить Тасю с Ваней к родителям и наконец уже успокоиться!
– Нет, нет. Мы, как цыганва! Слушай, слушай! – требовала Тася. – Как твои уснут, ты приходи, поможешь мне с Ванюшкой!
Паша с ужасом представил, как шумит насос, чтобы набрать воду. И что воду надо кипятить! Это вообще самый дурацкий, глупый и невозможный план!
– Мы на купальню пойдём, – продолжала шептать Тася. – Только ведро возьмём. И мыло!
Она вцепилась больно в Пашин локоть.
– Паша, Пашечка, пожалуйста, помоги, – взмолилась эта острая девочка, – нельзя нам обратно к жабе. И в детдом нельзя. Мы в разные попадём, понимаешь?! – у неё брызнули слёзы, она вытирала их резко, а Ванька не плакал. У него были сонные и пустые глаза, он был такой покорный, что Пашке от этой покорности было страшнее, чем от Таськиных слёз.
Паша установил целых четыре будильника в телефоне. Но это была ерунда, потому что уснуть он не мог. Никогда таких серьезных тайн от родителей у него не было. Да и таить ему особенно было нечего. Он практически всё время был при взрослых – маме, учителях, руководителях кружков. Он знал, что отец иногда говорит с сожалением: «Эх, то ли дело у нас в детстве!» И Пашка с трудом представлял себе – как это? Как это – целыми днями на улице сами по себе? И уроки – сами. У Пашки три репетитора, два языковых кружка, и мать – председатель школьного родительского комитета.
Пашка вздыхал, ворочался, замирал, потому что мать, он слышал, тоже никак не могла уснуть. И даже за неплотно прикрытой двустворчатой дверью, он слышал, как она тяжело вздыхает.
Когда он пробирался в сарай, даже не боялся уже. Он так устал, что был готов к любому разоблачению. Ну что такого случится? Ну мать, увидев все их шпионские заговоры, строго и тихо спросит: «Разве ты не знаешь, что ты можешь всё мне сказать?». Ну будут потом разговоры и споры мамы и папы, мол, должен или не должен он рассказывать. Ну мать скажет, что она доверяет и ждёт доверия от Паши. Что нет ничего такого, что нельзя было бы решить. И Пашка не сможет найти слов, потому что одно дело его тайна, а другое – чья-то тайна. И не просто секрет. И Пашка никак не мог и для себя понять, почему.
Его немного мутило, потому что это было совсем не так, как в школе, на специальных уроках, где им рассказывали про милосердие и благотворительность. Про то, что они могут помочь другим детям или старикам, которым нелегко, у которых всё сложилось не так, как у Паши, например. И они рисовали рисунки и собирали канцтовары. И мама даже рассказывала Паше про то, что в старших классах по решению педсовета и родительского комитета ученики делали бумажных журавликов для тяжелобольных детей.
И Паша проникался, лелеял свою щедрость, выбирал краски и фломастеры, гордился мамой, красивой, уверенной, очень-очень правильной! У неё грамот и благодарственных писем больше, чем у Пашки!
У них только с приютами для животных ничего не вышло. Ездили с матерью и отцом. Но очень быстро уехали. Это было совсем не похоже на журавликов-оригами, канцтовары и весёлые рисунки. Собак было очень много. Собаки были слишком жалкими и страшными. И всё в этом приюте было таким жалким и несчастным, что мать как-то быстро Пашу увела. И «собаку на выгул», как планировали, они не взяли.
И Пашке было скверно, неприятно, потому что вдруг вся благотворительность сейчас, где есть вот Тася и Ванюшка, были скорее, как тот собачий приют.
И он, конечно, подслушивал тогда их разговор. И мама говорила, что милосердней и правильней вот такого вот не разводить, а решать «кардинально». И Паша всё пытался выяснить у отца, как именно «кардинально», и что значит это вообще? А папа говорил, что мама лучше объяснит.
Подлую мысль чем-нибудь громыхнуть, уронить что-то, чтобы мать проснулась, Пашка, пока шёл к сараю, старательно отметал.
Удивительное дело, но страшная дорога до купальни, через огород и камыши с травой, где от луны был свет и страшные тени, а в тишине каждый звук – просто ужастик натуральный, Пашу не испугала. Таська шла уверенно и бесстрашно, и даже Ваня не боялся и не беспокоился.
На купальне Тася деловито распоряжалась, а Пашка, как робот-слуга, двигался и делал, что велела Тася. Всё дневные страхи, все чувства вообще как будто исчезли. И хорошие и плохие. И смущение с неловкостью, и ненормальность происходящего были похожими на сон.
Ванюшка хныкал совсем чуть-чуть, у него кривилось лицо, и бровки взлетали вверх, но он послушно поворачивался, переступал с ноги на ногу. И это всё было таким неправдоподобным, нереальным, смущающим. Пашка деревянными руками подавал ковшик, мыло, было холодно, и он старался изо всех сил не трястись, глядя на голого маленького хныкающего Ваньку. Таська отдувалась, смотрела строго и сосредоточенно, намыливала Ваньку всего, тёрла и тихо приговаривала: «Не открывай глазки, не открывай, мыло покусает!». И Ванька весь деревенел, переставал трястись и скукоживал личико.
Потом Тася велела им сесть на шаткую узкую скамейку и ни в коем случае не подглядывать. Она окунётся прямо в речку, потом намылится и снова окунётся, и всё. Паша смотрел на неё, некрасиво открыв рот, а потом с ужасом – в чёрную воду узкой речной извилины. И Тася, которая до того выглядела смелой, тоже смотрела в чёрную воду и хватала себя за плечи.
– Голову потом помою, – стуча зубами сказала Тася. Пашка понял, что ей тоже страшно. Но он и днём сюда бы с головой не нырнул.
Ванька, несмотря на то, что внешне был маленьким, показался Пашке тяжёлым и неудобным. Он держал его на руках, отвернувшись от речки и теперь уже с самым настоящим страхом всматриваясь в траву и в тени домов за огородом.
«А если она утонет?», – думал с ужасом. Потому что соседка сказала про это место, что тут «рывчак», а папа как раз поэтому запретил купаться одному. В этом месте течение речки ускорялось. А сходни, кем-то сколоченные сто лет назад, выглядели гнилыми, чёрными, ненадёжными.
– Пашка, помоги, – наконец сказала Тася. – Полей на голову.
В лунном свете Тася снова показалась Пашке неживой. И если бы он мог, он ни за что не отпустил бы Ваньку, к тёплой тяжести которого он уже привык, и они даже грелись друг об друга.
Он поливал холодной водой на Тасину голову, смотрел, как быстро она намыливает мылом волосы. И всё вокруг уже было мокрым, и Пашка тоже был мокрым и совсем некстати он вспомнил, как мать шикала и торопила, чтобы после помывки он не задерживался на улице, и сушила ему маленьким феном волосы, и подтыкала одеяло, хотя в прогретой за день солнцем и плитой кухне было даже душно. У Таси, переодевшейся в сарафан, торчали острые лопатки. Такие хрупкие, жалкие лопатки, что у Паши начинала трястись рука, которой он зачёрпывал из ведра речную холодную воду. Эти лопатки были похожи на куриные крылья, и от их жалкого вида у Паши ёкало болезненно в груди и сжималось горло.
Обратную дорогу подсвечивали фонариком из Пашиного телефона. Луна повисла между двух облаков и стала похожей на взгляд василиска.
Вот теперь Паша по-настоящему боялся, что родители проснутся. Тогда уже будут разговоры не про доверие. Тут уж ему расскажут про глупость и безрассудство. И будут смотреть, как бы недоумевая: неужели сын мог быть таким глупым? И ходить ночью на купальню? И как он мог ничего не рассказать родителям?! И долго потом будут вспоминать эту историю и не доверять и смотреть осуждающе, грустно, с укором.
Когда Паша остался на улице, робко подсвеченной тусклой лампой у навеса, где стоял насос, а за Тасей и Ваней закрылась дверь в сарай, то совсем сдулся. Он еле дошоркал, как каторжник в кандалах, до крыльца, а потом до кровати. И он так устал, что думал – уснёт мгновенно, но никак не мог. Руки ощущали Ванькину тяжесть, а перед глазами стояли жуткие Тасины лопатки, которые были куда страшнее, чем луна в облаках, похожая на взгляд василиска.
С утра мать стала совсем чужой. Она на бегу обнимала и целовала Пашу, трогала его лоб, а Пашка уворачивался, говорил, что он здоров. Но мать смотрела на отца с упрёком и снова касалась губами лба и обнимала, и заглядывала тревожно в глаза.
Пашке было тошно. Он вдруг начал злиться на папу, потому что вот тут, он точно знал, что решать должен отец, а не мама! И на маму, потому что она перестала быть такой правильной и красивой почему-то. Может, из-за того, что произошло с самого утра. Он как раз караулил Тасю с Ваней у туалета. А мать, обойдя дом с другой стороны, говорила таким громким шёпотом, что Паша был уверен, её слышали и Тася с Ваней, и даже соседка, чья кофта мелькала за досками забора. Говорила про детей, про «Митя совсем с ума сошёл» и «слава Богу, тут по-деревенски всё готово». И уверяла невидимую собеседницу, что два, ну три дня, и они уедут все вместе! И про отца, что, конечно, она не оставит Митю здесь ни на день, пока он не придумал какой-нибудь глупости.
– Это такие нищета и катастрофа, если бы ты знала! – говорила она кому-то срывающимся голосом. И ещё про их квартиру, и что только-только «зажили, как люди». И ещё возмущалась: «Даже не говори мне ничего! Девочка – ровесница Павлуши, вместе их поселить?!».
Потом мама ушла, а Пашка избегал смотреть на Тасю. И каким-то неведомым чувством он понимал, что «нищета и катастрофа» – это про Тасю и Ваню. И что «все вместе» – это про папу, маму и самого Пашу. И Тася с Ваней – совершенно отдельные, никак не относящиеся к словам «все вместе» люди.
Тася с Ваней ушли незаметно. Пашка, как ни караулил, пропустил их уход. Мать теперь всё время за ним наблюдала, звала по поводу и без и всё время бросала «говорящие», упрекающие взгляды на отца. День был пустым, и только вечером Паша вышел за калитку, и тут же, с той стороны улицы, где вчера стояла стайка ребят, к нему направился долговязый Сергей и ещё несколько пацанов.
Они смотрели с любопытством, жалостью и скукой на Пашу. Сергей сказал:
– Не возьмут твои Таську.
И было непонятно, спрашивает он или утверждает. Паша смотрел в сторону.
– Завтра поминки, – сказал кто-то. – До завтра Таську не тронут. Это уж когда эти (кивок в сторону Пашки и калитки) уедут, тогда – хана.
– А твои-то чего говорят? – это снова Сергей спросил.
Паша только плечом дёрнул. Он никак не мог рассказать, что подслушал у родителей. Что мать звенящим голосом говорила, что отец должен подумать не о чужих детях, но главное – о своём родном сыне! И если он не понимает, то и о ней тоже! И она вообще всё время как будто звенела и объясняла, что Пашин отец не имеет права навешивать на неё больше, чем она может сделать. И что она и так одна справляется с Пашей!
На поминки пришла вся деревня, кажется. Столы накрывали под яблонями на огороде.
С утра родители говорили уже спокойными, уверенными и взвешенными голосами. И Пашка, замирая, вслушивался не только в слова, но в интонации. Они уже не ссорились, а мать – не звенела. Она говорила то уверенно, то мягко, и отец соглашался, кажется. И только в один момент, он, наконец, смог улучить минуту и спросил:
– Мам, а что с Тасей и Ваней будет?
И мать, схватив его за руку, отвела за дом, с той стороны, где она с кем-то говорила вчера утром, заговорила так, как обычно, ласково и твёрдо, глядя в глаза, уверенно и успокаивающе:
– Пашенька, сынок. У Наташи и Вани есть мать. Да, не родная, – голос у мамы был таким спокойным, надёжным, что Паша очень хотел ей верить и её слушать. – Мы с папой выясняли, у них всё в порядке. Хороший дом, им помогает государство. И мы с папой, конечно, будем помогать. Тебе не стоит волноваться, потому что это взрослые вопросы, и мы их решим.
Паша смотрел недоверчиво.
Мать обняла за плечи, стала его слегка покачивать, целовать и дуть в макушку и так, как будто читала Пашке сказку, говорить. Она говорила про деревню, что здесь особый уклад, и что Паше, конечно, всё это показалось странным, но это просто такая жизнь. Что, само собой, они с папой будут не только помогать, но присматривать за детьми, за Наташей и Ваней. И она ещё что-то говорила, но Пашка уже не слушал. Он думал про жуткую руку «жабы» с облупленным лаком на ногтях.
Про рассказы пацанов, что сожитель у неё наводит страх на всю деревню. И что «жаба» и «шаболда» пользуется Таськиными и Ванькиными деньгами. Но мамин голос, такой размеренный и спокойный, как будто превращал всё это в Пашкин страшный сон. Он всё думал, что надо бы как-то маме объяснить, что у Таси с Ваней не уклад, а плохая жизнь. Но что рассказать? Что он ездил с незнакомыми взрослыми парнями в аварийное здание? Что ходил ночью на купальню? Тогда родители только перепугаются за него, Пашу. Но про Тасино с Ваней несчастье всё равно не поймут.
На поминках пошёл дождь. Тасино лицо казалось совсем серым и снова – неживым. Пашку на похороны не взяли, а Тася с Ваней там были, и Пашка обмирал от ужаса при этой мысли. И Паша сначала боялся, а потом разглядывал Тасю, потому что она смотрела всё-время куда-то мимо Паши и вообще мимо людей. И когда мать уже укладывала его, снова целуя в макушку и проверяя губами лоб, Паша быстро уснул.
Дождь лил все два с половиной дня, которые они были ещё в деревне. Паша спросил на всякий случай у отца, что будет с Тасей и Ваней. Отец сказал, что они позаботятся, и дети тут не одни остаются. И Пашке уже казалось, что он придумал всю эту беду. И он уже почти поверил, что это просто такой особенный деревенский уклад, такая вот жизнь. Но просыпался в тревоге, вздрагивая, как будто падая во сне. Потому что «сожитель жабы» оказался даже страшнее, чем Пашка представлял.
Он был совсем не тем громилой, которого нафантазировал Паша. Он был, напротив, худой и довольно мелкий. Но у него было странное лицо. И Паша никак не мог понять, на что похоже это лицо. И почему-то думал про злобного хорька, но хорьки – ужасно милые, а этот человек был абсолютно чётко злой. И когда взгляд «сожителя» задерживался на ком-нибудь, то Паша опускал глаза.
Они летели все на разных местах. Мать через проход от Паши, а отец – сзади и сбоку. В аэропорту отец тоже был отдельно, а Пашке очень хотелось, чтобы он был рядом. Хотелось совсем уж по-детски держать его за руку и прижиматься к его боку. Но когда Паша делал к нему шаг, отец как будто отмирал ненадолго, опускал руку Паше на плечо и улыбался, но Пашку не видел. Мать была обычной – деловитой, собранной, твёрдой и ласковой. Они уже всё решили, его родители.
Мать с Пашей на две недели уедут на море. Потом Паша поедет в языковой лагерь. Отец будет работать. Они, его папа и мама, обсуждали такие привычные и обыденные дела, и Паша изо всех сил старался не замечать, что у отца лицо постарело почему-то, а у матери слишком явно проступала непривычная жёсткость. И оба они хотя и делали вид, что всё, как обычно, были как будто отдельно друг от друга.
Он бы во всё поверил. И он уже почти верил. Только надо забыть про жабу и жуткие пальцы той тётки. И голого Ваньку на купальне. И Тасины лопатки, похожие на куриные крылья. И деньги, Тасины деньги, которые он выкинул в туалете в аэропорту, потому что так и не успел передать их ей. И жутко боялся, что дома мать их найдёт. Да и чем эти несчастные рубли им помогут? Пашка кривился, вспоминая про эти деньги, и мать трогала лоб непривычно – не губами, не ладонью, а запястьем, и Паша дёргался от этого прикосновения. И знал, что больше не нарисует ни одного весёлого «благотворительного рисунка». Потому что будет видеть, как такой рисунок получает Таська. Острая Таська со своими жалкими лопатками.
Он мечтал оказаться дома. Думал про море и про лагерь. Потому что все будут рассказывать про свои поездки после каникул. Про «офигенные пляжи» и парки с аттракционами, совать друг другу фотки в телефонах. А у Пашки пока только эта жуткая деревня за каникулы, и хвастать нечем.
Мать взбодрилась в Пулкове. Здесь тоже лил дождь, но мать радовалась, как будто они с Пашей уже на курорте. Отец вдруг попытался его приобнять, но Пашке стало неприятно, он аккуратно выбрался из-под отцовской руки. И подумал, что сейчас возможность что-нибудь у него выпросить – просто отличная. Это виноватое выражение Паша знал. Он улыбнулся матери и кивнул, что он рад, что наконец они вернулись, и не протестовал против её объятий.
Пара дней за играми, а там – море, потом лагерь. Будет, чем хвастаться в школе. Только не думать про лопатки, жабу и то, что всё изменилось. Что все «уроки милосердия», которые так активно организует его мать, будут отдавать запахом заброшенного лагеря, Таськиной мачехи, запахом купальни и гнилых сходней, и дешевого мыла, которым мыли трясущегося Ванюшку, а Тася – волосы.
Автор: Светлана Шевченко